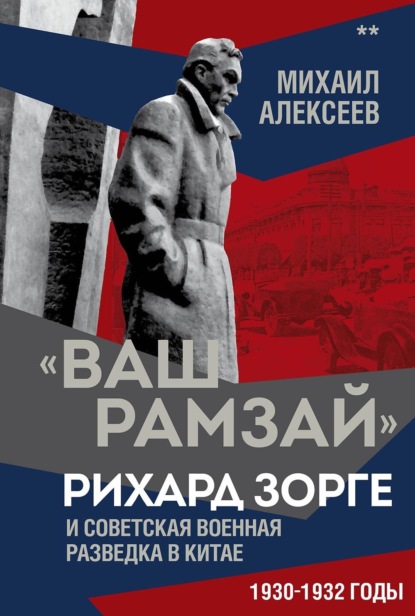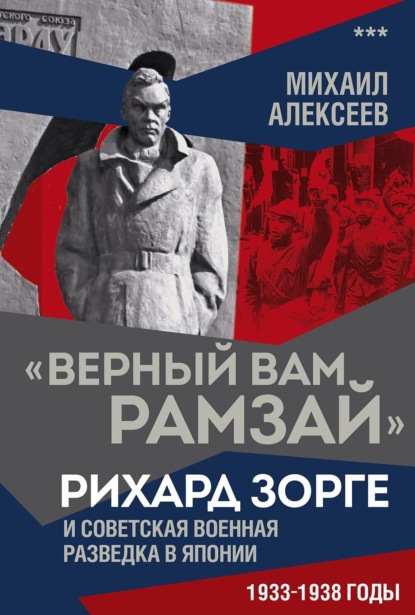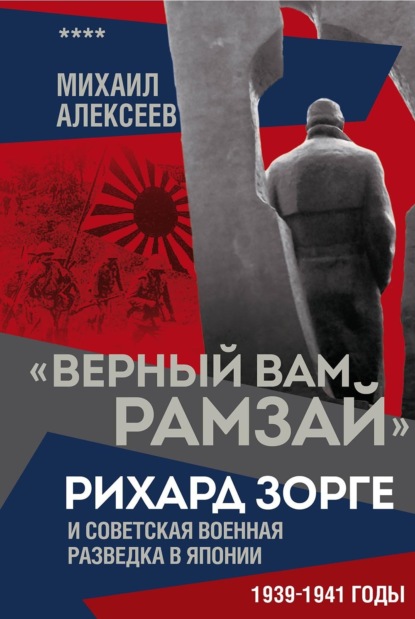«Ваш Рамзай». Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты». 1922–1930 годы. Книга 1
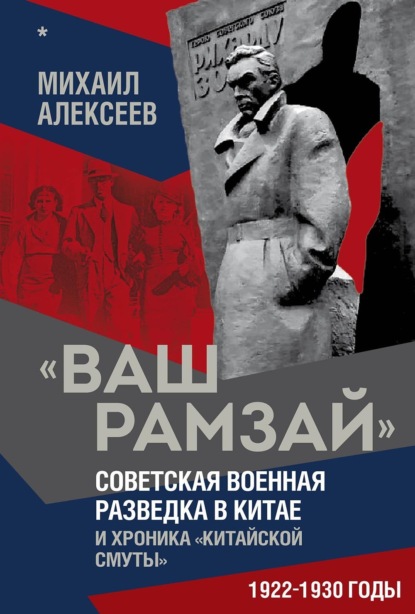
- -
- 100%
- +
По одному из удачных сравнений, Коминтерн представлял собой, подобно айсбергу, две неравные части. Меньшая часть айсберга, находившаяся на поверхности, – это конгрессы, пленумы ИККИ, учебные заведения – Международная ленинская школа (1925–1928), Коммунистический университет трудящихся Востока (1921–1928), Университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена, переименованный в Коммунистический университет трудящихся Китая (1925–1930) и др. К «надводной части айсберга» относились и создававшиеся Коминтерном организации – Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн)[34], Крестьянский интернационал (Крестинтерн), Коммунистический интернационал молодёжи (КИМ)[35], Антиимпериалистическая лига, различные международные антифашистские организации, Международная организация помощи борцам революции (МОПР)[36], Международная организация рабочей помощи (Межрабпом)[37], Международный комитет друзей СССР, Интернационал свободомыслящих пролетариев, Красный спортивный интернационал (Спортинтерн) и другие.
Большая же часть «айсберга» была не видна, утверждали авторы этого образного сравнения. Это был мир «подпольной политики», и здесь главной организационной структурой был ОМС – Отдел международной связи (встречается также название «Отдел международных связей») ИККИ, контролировавший тайную деятельность, финансы, кадры, державший в руках «все связи и всю агентуру». Вышеуказанную точку зрения подтверждает и Айно Куусинен, референт по Скандинавии Информационного отдела ИККИ, не имевшая никакого отношения к ОМСу, и могла опираться только на слухи, окружавшие этот Отдел: «Наиболее секретным был Отдел международных связей (ОМС). Это был мозговой центр, святая святых Коминтерна. Сеть уполномоченных ОМСа охватывала весь мир. Через его агентов руководителям компартий отдавались приказы Коминтерна. Уполномоченные ОМСа передавали компартиям средства, выделяемые Коминтерном на их партийную деятельность и пропаганду… Этому отделу подчинялись все тайные торговые предприятия, депутации и секретные службы информации. Отдел также занимался редактированием, шифровкой и расшифровкой донесений и пропагандой.
Кроме того, ОМС был связующим звеном между Коминтерном и Разведслужбой Генерального штаба, а также между Коминтерном и тайной полицией».
Если с первой частью утверждения насчёт надводной части айсберга можно и согласиться, то вторая его часть ни в коей мере не соответствовала действительности. К миру «подпольной политики» относились в первую очередь уполномоченные (представители), инструкторы ИККИ. Именно они осуществляли конкретную, повседневную работу с иностранными компартиями, в том числе и находившимися на нелегальном положении. Именно они должны были организовывать работу иностранных компартий в армии, и сами принимали в «антиимпериалистической работе» активное участие, именно они должны были готовить компартии к нелегальной работе. Руководство деятельностью таких представителей Исполкома Коминтерна за рубежом осуществлялось непосредственно через Орготдел. Последующая вертикаль принятия решений замыкалась на Оргбюро (с декабря 1927 г. в связи с ликвидацией Оргбюро, его функции, в части касающейся, были переданы Политсекретариату ИККИ).
Отдел международной связи при всей своей важности и незаменимости играл в деятельности Коминтерна обеспечивающую роль, и не более того. И приписывать ОМСу не свойственные ему функции совершенно не следует, в том числе и насчёт связующей роли отдела между Коминтерном и Разведупром. Хотя это и не означает, что сами сотрудники ОМСа и его руководители не всегда адекватно сознавали своё место и предназначение, которое в определённой степени поддерживалось и культивировалось у них отдельными руководителями ИККИ, а также распределением обязанностей между отделами и секретариатами Исполкома Коминтерна. Сознание собственной избранности в организации далеко не всегда положительно сказывалось на результатах работы. Но об этом отдельно.
Следует более подробно остановиться на функционировании ОМСа, так как в 1930–1931 годах вопрос освобождения арестованных сотрудников поста ОМСа в Шанхае вынужденно занимал не последнее место в деятельности Рихарда Зорге во время его командировки в Китай.
Отдел международной связи был, пожалуй, единственным из отделов аппарата ИККИ, который с 1921 по 1936 г. не менял своего названия.
Главной задачей ОМС являлось осуществление посредством своих пунктов конспиративных связей между ИККИ и коммунистическими партиями, что включало в себя пересылку директив, информации, документов и денег для финансирования зарубежных компартий, нелегальную переброску людей «по суше и по морю» из страны в страну, отправка отобранных кандидатов для обучения в Советский Союз. Через пункты ОМСа за границей в Москву поступали информационные материалы от зарубежных компартий. Отдел международной связи и его пункты занимались изготовлением фальшивых паспортов, организацией явочных квартир, распространяли марксистскую литературу, в том числе через созданные ими книжные экспедиционные конторы.
Первым заведующим ОМСа был назначен Иосиф Аронович Пятницкий[38] (настоящие имя и фамилия Иосель Ориолов Таршис), опытный деятель революционного подполья в России. Позднее И. А. Пятницкий был известен как Осип Пятницкий (без отчества). В документах и литературе, посвящённой Коминтерну, существует разнобой в использовании имени Пятницкого. Сын Пятницкого, Владимир Иосифович, считает возможным называть отца – Осипом. Тем не менее, ранее и далее по тексту, используются инициалы И. А., так как в официальных документах Пятницкий проходил как Иосиф Аронович.
Существует байка, поведанная Владимиром Иосифовичем, о происхождении псевдонима отца, ставшего впоследствии фамилией одного из известных руководителей Коминтерна: «Социал-демократки мать и дочь Бахи придумали в целях конспирации прозвище „Фрейтаг“ (в переводе с немецкого „Пятница“), так как он постоянно назначал им встречи по пятницам».
Пятницкий был одним из революционеров-профессионалов – агентом печатного органа РСДРП «Искры», отвечавшего за доставку газеты в Россию и её распространение. Именно он, по свидетельству представителя ОМСа в Польше И. М. Бергера, много лет проработавшего с Пятницким, «…организовал массовую переброску большевистской литературы с Запада на Восток, из Лейпцига в Питер и Москву, имея в своём распоряжении ограниченные средства, а против себя – всю мощь царского аппарата».
Однако бесценный опыт нелегальной работы без своего развития в меняющейся обстановке, в новых условиях подпольной деятельности становился штампом и препятствием в работе. Сотрудница ОМСа Анна Разумова на вопрос, заданный ей в ходе допроса сотрудником Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД в 1937 г., рассказать о И. А. Пятницком как руководителе Коминтерна, ответила: «Вы помните, как Пятницкий перевозил „Искру“ в чемоданах с двойным дном? Да-да. И вот, представьте, когда мы в Коминтерне уже в 1920–1930-е годы везли материалы и т. д., он навязывал, чтобы мы так действовали. Хотя уже времена были другие, у него этот способ остался в памяти».
Чемодан с двойным дном – это образ, характеризовавший в данном случае восприятие Пятницким требований конспирации. Подобное легковесное отношение к этим требованиям, являвшимся залогом «выживания» нелегала во враждебной среде (а, вернее, пренебрежение к их соблюдению), проявилось спустя много лет во время пребывания Зорге в Китае. Всё это ни в коей мере не означало отказа от осмысления опыта подпольной работы партии, и преломления его к «современной» действительности.
С 19 декабря 1922 г. пост заведующего Отделом международной связи занимал Павел Александрович Вомпе[39]. После его смерти в августе 1925 г. руководителем ОМСа был утвержден М. Г. Грольман[40], в недавнем прошлом сотрудник Региструпра Полевого штаба Революционного военного совета Республики (РВСР).
Вскоре Грольмана сменил А. Е. Абрамович, известный в Коминтерне под фамилией «Альбрехт»[41]. Особого рвения Абрамович в должности заведующего ОМСа не проявлял. В апреле 1926 г. он обратился в Секретариат Исполкома Коминтерна с заявлением, в котором довольно сумбурно объяснял, что используется в Коминтерне неправильно, сидит зачастую без дела, а «…добавочная работа в Орготделе, которая… до сих пор представлялась, носит больше номинальный характер». Абрамович входил от ОМСа в состав руководства Орготдела. В заключение он попросил освободить его от обязанностей заведующего ОМСа и откомандировать в распоряжение ВКП(б). В сентябре Абрамович действительно ушёл с занимавшегося им поста и перешёл снова в Орготдел на должность референта. Однако уже в начале января 1927 г. постановлением Секретариата ИККИ он был командирован в Шанхай. После непродолжительной, но бурной деятельности Абрамович был отозван из Китая, который покинул 23 апреля 1927 г. В декабре этого же года он вернулся в Шанхай уже в качестве представителя ОМСа.
По определению деятельность Отдела международной связи и его пунктов за рубежом должна была носить конспиративный характер. Однако этого не произшло.
С начала 20-х годов работники ОМСа, как правило, являлись сотрудниками посольств СССР, торгпредств, представительств ТАСС и других легальных советских организаций за границей. Уже один факт использования советских представительств за рубежом в качестве прикрытия для сотрудников пунктов ОМСа способствовал расконспирации их деятельности.
В докладной записке одного из руководителей службы связи ИККИ (так стал называться с 1936 г. ОМС) от 4 марта 1939 г. по так называемому «делу Рюэггов» (известно также как «дело Ноуленсов») (Яков Рудник, руководитель пункта связи ОМСа в Шанхае, и его жена, арестованные в Шанхае в 1931 г.) указывалось: «До 1927 г. в страны, где имелись дипломатические представительства, работники ОМСа посылались легально с дипломатическими или служебными паспортами, то есть для властей и остальных сотрудников учреждения они числились обыкновенными сотрудниками, на деле же вели работы исключительно для ОМСа. Вся связь с Москвой – деньги, телеграммы, посылка почты и печатного дела – производилась через аппараты НКИД, и часть своей работы сотрудники ОМСа выполняли в стенах посольства. После обыска помещений Аркоса в Англии, сов[етского] посольства в Пекине в 1927 г. решено было реорганизовать работу ОМСа во всех странах на новых, более конспиративных началах. Работникам ОМСа было запрещено встречаться с иностранными коммунистами в советских учреждениях, держать там нелегальные архивы или заготовлять фальшивые паспорта. Диппочтой можно было пользоваться только для получения денег и посылки шифрованных денежных отчётов, а также по вопросам въездных виз в СССР для иностранцев по линии К[оммунистического] И[нтернационала]».
Однако, и после 1927 г. соблюдение требований конспирации в деятельности сотрудников пунктов ОМС далеко не везде соблюдались. Пример тому аресты упоминаемой выше четы Рудников.
В структуре ОМСа имелись подотделы: пунктов связи, литературный, курьерский, «техники», финансов.
Снабжение иностранных партийных деятелей и сотрудников Коминтерна документами прикрытия, и в первую очередь паспортами, возлагалось на подотдел «техники». Существовало несколько способов получения паспортов. Первый из них, самый простой и далеко не самый надёжный, заключался в следующем. Иностранный коммунист, проживавший в СССР, передавал свой паспорт в ОМС Коминтерна, где документ «подправлялся» с учётом данных человека, которому он предназначался. Понятно, что подготовленный таким образом документ, который назывался «промытым» паспортом, часто причинял массу неприятностей своему новому владельцу, а сам способ не обеспечивал все возраставшую потребность в легализационных документах. Полностью поддельными документами в Коминтерне практически не пользовались.
Особенно ценились паспорта Швейцарии, которые позволяли их владельцам путешествовать по странам Западной Европы без визы. Наиболее надёжным был способ получения швейцарских паспортов с привлечением полицейских чиновников, которые сотрудничали с местной компартией на идеологической или материальной основе. Так, полицейский служащий (псевдоним «Сапожник») паспортного стола в г. Вале с 1926 г. передавал Компартии Швейцарии в интересах ИККИ паспорта и другие официальные документы, в которых нуждался Коминтерн. За это «Сапожник» получал ежемесячное вознаграждение в размере 150 франков, а с середины 30-х годов имел ещё и премию в 100 швейцарских франков за каждый выданный документ. Этот полицейский сотрудничал с Коминтерном, а через него и с советской разведкой вплоть до 1942 г. Процедура получения паспортов выглядела следующим образом. Установочные данные (пол, возраст, особые приметы) на человека, которому был нужен паспорт, передавались «Сапожнику», который подбирал в архивах полицейского управления швейцарского гражданина с данными, максимально совпадавшими с переданными из Москвы. Затем в подотделе «техники» изготовлялось фальшивое свидетельство о рождении, на основании которого паспортным столом в г. Вале и выдавался паспорт.
Однако владелец паспорта не выдерживал серьёзной проверки, когда по месту жительства его «родных», посылалась его фотография, которую должны были опознать.
В подотделе «техники» изготовлялись и другие легализационные документы, а также печати, штампы, спецчернила, бумага и т. п.
ОМС создавал пункты связи не только за границей, но и на территории Советской России, в первую очередь в портовых городах.
С мая 1924 г. до мая 1927 г. действовал пункт связи ОМСа в Пекине. Представителем ОМСа являлся А. Я. Сярэ[42], до этого работавший по линии Разведупра Штаба РККА помощником резидента в Ревеле. Сярэ находился в Пекине под прикрытием советского полпредства в качестве заведующего его финансовой частью. Спустя несколько лет, он вновь окажется в Китае в качестве представителя IV управления под официальным прикрытием, на сей раз уже в качестве резидента – консул в Дайрене (с 1932 г.), первый секретарь в Нанкине (с сентября 1933 г.).
К 1928 г. Отдел международной связи имел свои пункты в Одессе, Владивостоке, Иркутске, Чите, Ленинграде, Мурманске, Киеве, Баку, Риге, Ревеле (Таллине), Берлине, Вене, Варне, Стокгольме, Париже, Христиании (Осло), Константинополе, Амстердаме и других городах Европы, Азии и Америки. Через эти пункты ОМС наладил связи с компартиями многих стран. Было положено начало развёртыванию работы на местах под прикрытием создаваемых экспортно-импортных фирм.
Развернул работу пункт связи ОМСа и в Шанхае, решая задачи установления контактов с революционными организациями Китая, Кореи, Японии и других стран. Этот пункт занимался получением и отправкой почты, зашифровкой и расшифровкой шифртелеграмм, распространением коммунистической литературы, финансовыми операциями, в том числе передачей «московских» денег руководителям компартий, отправкой на учёбу отобранной китайской молодёжи, «обслуживал» представителей Профинтерна, КИМа, МОПРа, Антиимпериалистической лиги.
Отдел международной связи Коминтерна являлся строго засекреченным подразделением, и вся его работа за рубежом должна была осуществляться нелегально и конспиративно. Но о какой конспиративности и нелегальности могла идти речь, если до майского постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 1927 г. представители ОМСа за рубежом находились на должностях советских полпредств и торгпредств, а с 1923 г. фельдъегерская связь ГПУ использовалась «для нужд Отдела международной связи». Значительная часть печатной продукции, различных грузов и товаров, предназначенных для Коминтерна, шла в Москву в адрес Наркомата внешней торговли. Коминтерновские телеграммы и радиограммы за границу (и наоборот) передавались компартиям только через Наркомат иностранных дел – специально была учреждена должность «представителя ИККИ при НКИД» по отправке радиотелеграмм. Для перевозки людей и грузов ОМС использовал выделенные в его распоряжение по решению Политбюро ЦК и Совнаркома специальные железнодорожные вагоны и торговые суда. Периодически между ИККИ, с одной стороны, а с другой – советскими наркоматами и ведомствами возникали разногласия, споры и даже конфликты.
Далеко не все сотрудники ОМСа были профессионалами в нелегальной работе, что приводило к регулярным провалам. В повседневной практике Отдела международной связи при переписке и обмене телеграммами использовались коды и шифры. Однако и здесь к этим элементам конспирации нередко относились формально. «Уважаемый товарищ. 1. Ваше письмо от 17/IV и приложенные 256 кило чаю для Леона Асланиди получено…», – писал сотрудник ОМСа, скрывавшийся под псевдонимом «Блиц», заведовавшему отделом «Альбрехту» (Абрамовичу) весной 1926 г. Под «Леоном Асланиди» скрывалось кодовое обозначение Компартии Японии, а «килограмм чая» подразумевал один американский доллар. «Блиц» не удержался от комментариев используемого в переписке кода: «…Надо иметь в виду особенности каждой страны, наприм[ер], ни один черт из Москвы не присылает „чай“ в Асланидию, т. е. такой покупки или заказа никогда не было и не будет».
В августе 1925 г. секретарь Исполкома Коммунистического интернационала молодёжи Виссарион Ломинадзе[43] обратился к секретарю ИККИ Отто Куусинену[44] и председателю Исполкома Коминтерна Г. Е. Зиновьеву с заявлением, в котором подверг резкой критике деятельность как московского аппарата ОМСа, так и его берлинского и венского пунктов. Каплей, переполнившей чашу терпения ответственного работника КИМа, явились злоключения одного из сотрудников Исполкома Коммунистического интернационала молодёжи, который был задержан на пароходе германской полицией и провёл восемь дней в гамбургском участке, поскольку не получил от представителя ОМСа в Берлине А. Л. Абрамова (псевдоним «Миров») нужных документов.
«Т[оварищ] Иоганн, – писал Ломинадзе о другом сотруднике ИККИМ, – арестованный сейчас в Голландии… получил какую-то дрянную бумажонку, которая осложнит его положение, тогда как всё это можно было устроить вполне легально… Со своей стороны я добавлю ещё несколько фактов, – продолжал возмущаться Виссарион Ломинадзе. – Я, уезжая из Берлина в Прагу, получил две явки в Прагу от того же т. Мирова. Обе оказались совершенно фантастическими, и я, конечно, позорно провалился бы в Праге, не возьми я случайно одного частного адреса у частного знакомого…»
Не единичным случаем было выяснение отношений между уполномоченными (представителями) ОМСа и Исполкома Коминтерна за границей. Об этом свидетельствует документ, датированный сентябрём 1927 г. и называвшийся «О взаимоотношениях отделения ОМС с уполномоченными ИККИ». В нём, в частности, говорилось, что отделение ОМСа в Китае «…имеет целью установить связь между ИККИ и Китаем», и оно «…не подчинено уполномоченным ИККИ в Китае, а ответственно за свою работу перед ОМС ИККИ». Более того, любые сношения уполномоченного ИККИ с отделением ОМСа должны производиться исключительно через заведующего ОМСом или его заместителей, финансовые операции – лишь по указанию ОМС ИККИ; то же касалось заказов паспортов, прохождения всей переписки с заграницей. Наконец, все конфликты между уполномоченными ИККИ и отделением, указывалось в документе, должны разрешаться ОМСом.
Очевидно, предложения по финансированию компартий должны были исходить от уполномоченных ИККИ на местах, а никак не от ОМСа, функции которого должны были быть ограничены лишь передачей выделенных средств. Ведь, в конечном счёте, решения о финансировании зарубежных компартий и размерах этого финансирования принимал не Отдел международной связи, а Секретариат (Политсекретариат) ИККИ. Классический пример, когда телега была поставлена перед лошадью. Такой документ мог быть принят исключительно благодаря поддержке И. А. Пятницкого, бывшего заведующего ОМСом и курировавшего в Политсекретариате деятельность Отдела международной связи.
После А. Е. Абрамовича до 1936 г. заведующим Отделом международных связей являлся Александр Лазаревич Абрамов[45], известный в тот период как Абрамов-Миров, перешедший на работу в Разведывательное управление РККА.
С октября 1936 по май 1937 г. Службу связи Секретариата ИККИ[46], так стал называться с 1936 г. ОМС, возглавлял в прошлом один из руководителей военной разведки Борис Николаевич Мельников[47] под фамилией «Мюллер».
Деятельность военной разведки в первой трети XX в. нельзя рассматривать в отрыве от деятельности Исполкома Коммунистического интернационала. Между Разведупром (IV управлением Штаба РККА) и международной организацией коммунистов происходил постоянный обмен информацией и людьми. Сотрудники Исполкома Коминтерна переходили на службу в военную разведку и, наоборот. Подобное явление было довольно распространённым.
Контакты за границей представителей Разведупра и сотрудников ИККИ (особенно, когда в одном городе, в одной стране оказывались старые знакомые и друзья по работе в компартиях и в аппарате Коминтерна) невозможно было исключить, и они представляли собой неизбежное зло, неся в себе перманентную угрозу провала. И в первую очередь для военных разведчиков.
1.2. Усилия, предпринимавшиеся Советским Союзом по созданию в Китае дружественного государства (1922–1924)
Для обеспечения государственных интересов на Дальнем Востоке советские представители настойчиво добивались нормализации советско-китайских отношений, признания РСФСР существовавшим пекинским правительством де-юре. Одновременно развёртывалась военно-политическая деятельность Советского Союза на Юге Китая. По сути, это были два независимых и разнесённых друг от друга по месту процесса. Попытки их объединить были предприняты позднее и, в конце концов, достигли результатов, плодами которых СССР воспользоваться не удалось.
Ситуация в Китае осложнялась отсутствием единого правительства. Де-факто на территории Китая существовало одновременно несколько правительств. Основными являлись центральное Пекинское правительство во главе с Цао Кунем, признанным иностранными державами, Южно-китайское правительство во главе с Сунь Ятсеном (создано осенью 1917 года, а Ятсен провозглашён президентом Южного Китая в 1921 году). Помимо указанных двух существовало самовластие китайских генералов в провинциях, среди которых выделялось правительство Чжан Цзолиня в Маньчжурии (Северный Китай). Характерным являлось то, что каждое правительство поддерживалось различными странами, в том числе государствами Антанты, Японией, США, не исключая СССР, который имел свои интересы в Южном Китае, Маньчжурии.
Начатый ещё в 1920 г. курс на установление дипломатических отношений с центральным правительством предусматривал решение, в том числе и вопросов, относившихся к КВЖД в Северной Маньчжурии.
12 декабря 1921 г. в Пекин для проведения переговоров прибыла советская делегация во главе с А. К. Пайкесом[48] в качестве неофициального посланника. Вместе с тем Пайкесу был гарантирован дипломатический иммунитет и «все способы сношения с Москвой» – использование курьеров и шифровальной переписки. Однако вступить в переговоры с китайской стороной Пайкесу так и не удалось.
12 августа 1922 г. в Пекине появилась новая российская делегация во главе с А. А. Иоффе[49], назначенным «чрезвычайным полномочным представителем РСФСР в Китае». Китайская сторона согласилась принять Иоффе, как и Пайкеса, только «полуофициальным представителем правительства РСФСР в Пекине». Перед делегацией была поставлена задача: добиться установления официальных дипломатических отношений с Китаем, заключить торговый договор и соглашение по Китайско-Восточной железной дороге. Возглавляемая Иоффе миссия (за которой, как и в случае с делегацией Пайкеса, сохранялись все способы сношения с Москвой) состояла из 14 человек.
В меморандуме китайского МИДа от 11 ноября 1922 г. в этой связи указывалось, что при заключении соглашения по КВЖД необходимо исходить из текста «Обращения правительства РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного Китая» от 25 июля 1919 г. Подпись под документом поставил заместитель наркома по иностранным делам Л. М. Карахан, и в историю документ вошёл под названием «Первая Декларация Карахана». В китайском меморандуме утверждалось, что в Обращении содержалась следующая фраза: «Рабоче-Крестьянское Правительство намерено все права и интересы, имеющие отношение к КВЖД, безоговорочно вернуть без всякого вознаграждения».
Именно утверждение китайской стороны о наличии в обращении от 25 июля 1919 г. пункта о безвозмездной передаче Китаю КВЖД явилось основным камнем преткновения на переговорах с представителями пекинского правительства. Этот вопрос стал предметом оживлённых дискуссий не только в 20-е годы, но и в последующие годы среди советских и китайских исследователей. Свои пояснения оставил и автор «Первой Декларации Карахана»[50]. Дисскуссия была завершена М. В. Крюковым, которым был найден в архиве секретариата Ленина ответ на вопрос о том, каков был исходный вариант ноты НКИД от 25 июля 1919 г.: «В её тексте, представленном Виленским Ленину 10 августа того же года, есть пассаж о безвозмездной передаче Китаю КВЖД, позднее из декларации изъятый. Но этот абзац оказался лишним, когда во внешнеполитическом курсе Советской России постепенно возобладали собственно государственные интересы, а идея вселенской щедрости во имя грядущей мировой революции оказалась похороненной».