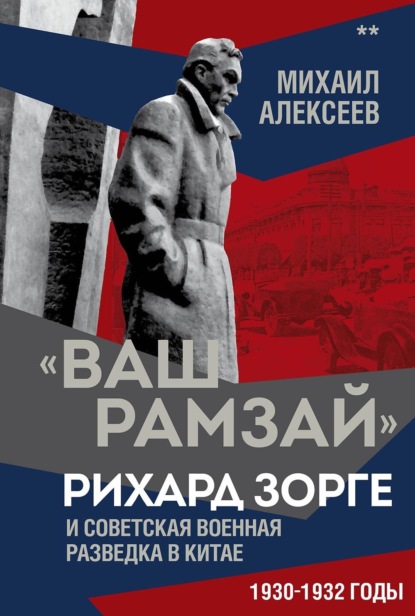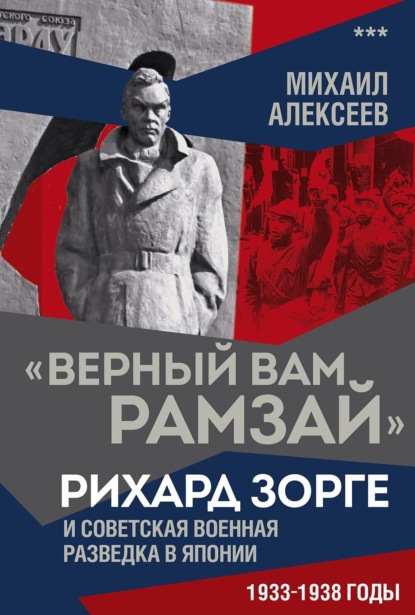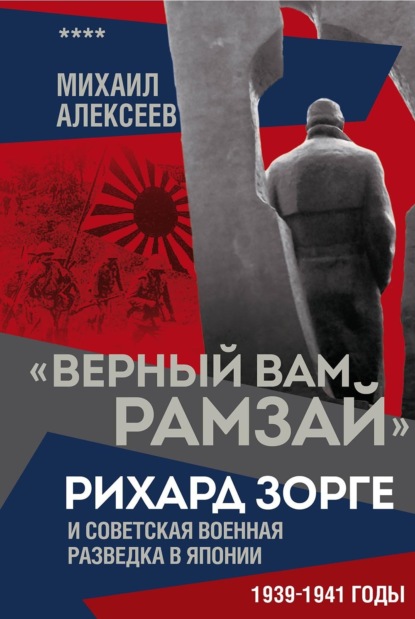«Ваш Рамзай». Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты». 1922–1930 годы. Книга 1
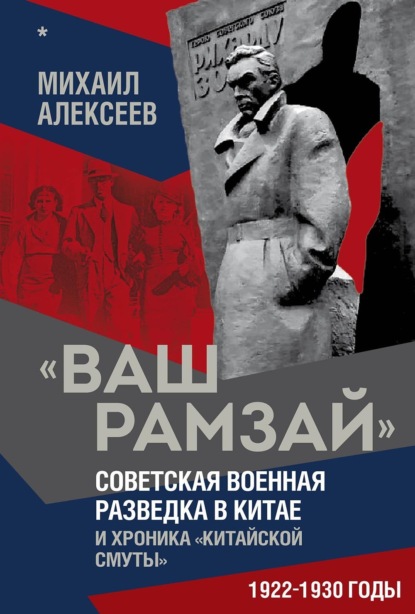
- -
- 100%
- +
В последующем во внешнеполитическом курсе Советской России постепенно возобладали собственно государственные интересы. 16 ноября 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) утвердило протокол заседания коллегии НКИД РСФСР, в котором говорилось, что Россия сохраняет за собой собственность Китайско-Восточной железной дороги, но как друг восточных народов и как враг империализма отказывается от политических и правовых привилегий и готова пойти на следующие уступки Китаю: сужение полосы отчуждения, досрочный выкуп дороги на льготных условиях, согласие на участие Китая в смешанном управлении дорогой.
В письме от 20 января 1923 г., адресованном А. А. Иоффе, выступавшему за передачу Китаю права собственности на КВЖД «без всякого вознаграждения», Л. Д. Троцкий объяснил позицию советского правительства и коммунистической партии. «Как хотите, – писал Троцкий, – но мне и сейчас не ясно, почему отказ от империализма предполагает отказ от наших имущественных прав. Китайско-Восточная железная дорога была, бесспорно, орудием империализма, поскольку она была нашей государственной собственностью на китайской территории. Поскольку же дорога переходит в руки Китая, она есть огромная хозяйственно-культурная ценность. В этом смысле мне совершенно непонятно, почему китайский крестьянин должен иметь дорогу за счет русского крестьянина… Мы можем и должны помочь Сунь Ятсену стабилизировать в Китае внутренний режим. Почему же Сунь или кто другой не может в этом случае частично возмещать нам наши расходы по Китайско-Восточной железной дороге, которой китайский народ будет пользоваться? Почему империализм?
Вы очень настаиваете на бедности Китая… Позвольте Вам напомнить, дорогой Адольф Абрамович, что Россия тоже очень бедна и совершенно не в силах оплачивать расположение к ней колониальных и полуколониальных народов материальными жертвами. Разумеется, очень заманчиво, было бы отказаться от имущества Китайско-Восточной железной дороги, то есть сделать подарок в 800 миллионов рублей, и сверх того дать взаймы 40 миллионов рублей (тоже, очевидно, без надежды на отдачу). Дорогу китайцы взяли бы, 40 миллионов рублей израсходовали бы очень скоро и потребовали бы продолжения, а не получив такового, обратились бы к Америке и перенесли бы туда свои симпатии…».
Но был ещё один фактор, препятствовавший нормализации советско-китайских отношений, – Внешняя Монголия.
Стремясь установить дипломатические отношения с центральным правительством, советское руководство в то же время вынашивало планы создать в Пекине другое, дружественное Советской России правительство, используя те или иные комбинации между различными противоборствовавшими военно-политическими группировками и их лидерами.
Наиболее перспективными с этой точки зрения представлялись в это время У Пэйфу и Сунь Ятсен. Первоначально советская дипломатия ориентировалась на У Пэйфу как на самого сильного и, как считалось, относительно прогрессивного военно-политического лидера. У Пэйфу, контролировавший центральное правительство, не уклонялся от контактов с советской стороной и даже передал письмо на имя Л. Троцкого, в котором говорилось «о солидарности русско-китайских задач на Дальнем Востоке». Одновременно прилагались усилия добиться сотрудничества Сунь Ятсена с У Пэйфу, которое должно было привести к созданию нового коалиционного правительства в Пекине, дружественного по отношению к Советской России.
С У Пэйфу неоднократно встречался летом 1922 г. А. И. Геккер[51], входивший в качестве военного эксперта в состав дипломатической миссии А. А. Иоффе. После одной из встреч с У Пэйфу в августе 1922 г. Геккер докладывал Л. М. Карахану для передачи Сталину: «Сунь Ятсен – идейный вождь Китая, У Пэйфу – военный, соединившись, оба создадут единый Китай. Теперь [они] ведут переговоры, надеемся, согласятся, [что] Сунь будет президентом республики, он сам – военмином и главкомом».
Это были усилия, заведомо обречённые на провал, так как Сунь Ятсен не желал вступать с У Пэйфу ни в какие союзнические отношения. Последний же в качестве условия сотрудничества выдвигал требование, чтобы Сунь Ятсен отрёкся от Чжан Цзолиня, что никак не соглашался принять доктор Сунь, который заигрывал с правителем Маньчжурии в целях укрепления собственных позиций. Сунь Ятсен прекрасно сознавал, что Чжан Цзолинь воспринимался советской стороной как японский агент, но заверял, что повлияет на него в нужном направлении. Чжан Цзолинь, в свою очередь, в ходе одной из бесед с Сунь Ятсеном подчёркивал, что Советская Россия сама преследует империалистические цели в Китае – «КВЖД и Монголию она не отдаёт, несмотря на все уверения в дружбе».
В 1922 г. между Сунь Ятсеном и российскими дипломатами, в том числе и наркомом иностранных дел РСФСР Г. В. Чичериным, завязалась оживлённая переписка. Позиция Суня, состоявшая в заключении временных союзов с милитаристами для использования одного против другого, не давая при этом никому из них особенно усилиться, в полной мере разделялась советскими представителями в Китае и в Москве и, более того, настоятельно рекомендовалась к реализации.
В конце 1922 г. произошёл разрыв между возглавлявшими чжилийскую милитаристскую группировку У Пэйфу и Цао Кунем. Последний совершил переворот в Пекине с целью добиться своего избрания президентом. Помощь в перевороте Цао Куню оказал один из генералов У Пэйфу – Фэн Юйсян[52]. Сам же У Пэйфу был вытеснен в провинцию Хэнань. Однако до полного разрыва между бывшими союзниками дело не дошло – ни тот, ни другой не были готовы пойти на такой опрометчивый шаг, так как это бы означало одностороннее усиление Чжан Цзолиня.
«Всякий китайский военачальник без территории, – докладывал в январе 1923 г. А. А. Иоффе руководителям РКП(б) и советского правительства по поводу У Пэйфу, – приблизительно то же, что кавалерист без лошади. Каждому из них нужна территория для того, чтобы на этой территории кормиться, крепнуть, развиваться». Рассуждения насчёт генерала и территории в равной степени относились и к Сунь Ятсену, и к его попутчикам из числа милитаристов. Сунь Ятсен призвал себе на помощь юньнаньского и гуансийского генералов. Оба командующих вместе со своими армиями были выброшены за пределы родных провинций конкурентами за власть и испытывали острую потребность в средствах. В конце 1922 г. союзники-милитаристы вытеснили Чэнь Цзюнмина на границу провинций Гуандун и Гаунси, и Сунь Ятсен вновь возвратился в Кантон, где и возглавил правительство Южного Китая.
Юньнаньцы, равно как и гуансийцы, считали своё нахождение в Гуандуне временным, необходимым для накопления сил с последующим триумфальным возвращением в родные провинции. По праву победителей они захватили лучшие доходные районы, превращая их в свою финансовую базу. Само же правительство практически оставалось без источников дохода. Тем не менее, с Сунь Ятсеном, который таким непростым путём вернул себе весьма неустойчивую власть в Кантоне, можно было уже обсуждать конкретные вопросы сотрудничества.
Линия на поддержку Гоминьдана в политике Москвы в Китае окончательно утвердилась к началу 1923 г. Так, 4 января 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) постановило «принять предложение НКИД об одобрении политики т. Иоффе, направленной на всемерную поддержку партии Куоминтонга [Гоминьдан], и предложить НКИД и нашим делегатам в Коминтерне усилить работу в этом направлении».
Постановлением Политбюро предписывалось: «Поручить НКИД подготовить ответ Сунь Ятсену от имени т. Ленина».
Это одно из первых принципиальных решений Политбюро об установлении связи с Сунь Ятсеном и поддержке национальной партии Гоминьдан, в том числе по коминтерновской линии, и об оказании этой партии материальной поддержки.
При встрече Сунь Ятсена с руководителем дипломатической миссии РСФСР А. А. Иоффе в январе 1923 г. в Шанхае, первый заявил, что планирует в ближайшее время реформы в армии и Гоминьдане и собирается организовать поход против реакционной милитаристской клики в Пекине (Северный поход), замышляемый с помощью Советской России.
Для реализации идей объединения Китая, если не всего, то его большей части, Сунь Ятсен через Иоффе в начале 1923 г. представил советскому правительству в разное время несколько планов (один из них, предполагающий размещение в провинции Синьцзян советских войск, даже был реализован). Сунь полагал необходимым под «…нашей оккупацией там создать русско-китайско-германское общество для эксплуатации… минералов, создание сталелитейного завода и арсенала». Выносился на обсуждение и другой план: из Сычуани перебросить имевшуюся там якобы 100-тысячную армию Суня к границам Монголии для установления прямого контакта с СССР через Восточный Туркестан и Ургу (ныне Улан-Батор). Китайская армия при этом должна быть вооружена Советским Союзом и приведена им «в достаточное боевое состояние». После этого, по замыслу Сунь Ятсена, должна быть предпринята последняя Северная экспедиция. Один из прожектов Сунь Ятсена основывался на том, что Советская Россия «диверсией из Маньчжурии» отвлечёт силы Чжан Цзолиня из занятого им Пекина.
Как бы то ни было, для реализации всех планов требовалась финансовая и военная помощь Советского Союза. Размеры денежных вливаний Сунь оценивал «…в размере максимум 2 миллионов мексиканских долларов». Надо сказать, что все планы изобиловали слишком большими допущениями, требовали больших денег и в подавляющем большинстве были вообще нереализуемыми. В частности, Сунь Ятсен совершенно неадекватно оценивал возможную реакцию иностранных держав на подобные выступления. Именно поэтому советские представители называли Сунь Ятсена фантазёром. Но речь шла не только о фантазиях доктора Суня. Для достижения задач объединения страны военным путём китайский лидер стремился использовать Советский Союз, как до этого использовал и продолжал использовать китайских милитаристов.
В начале 1923 г. А. А. Иоффе через Шанхай направился для лечения в Японию, его заместителем был оставлен Я. Х. Давтян.
8 марта 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) признало возможным оказать Сунь Ятсену помощь с определённой оговоркой.
Из протокола № 53 заседания Политбюро ЦК РКП(б):
«3. О Китае (предложение тов. Иоффе) (присутств. т. т. Чичерин, Карахан, Литвинов).
а) Отвергнуть все те части плана, которые в какой бы то ни было мере чреваты опасностью интервенции со стороны Японии.
б) Признать желательным заложить основу революционной армии в Западном Китае в форме целостной воинской единицы.
в) Признать возможным оказать денежную поддержку Сунь Ятсену в размере около двух миллионов мексиканских долларов.
г) Признать необходимым посылку к Сунь Ятсену группы политических и военных советников с согласия Сунь Ятсена.
…
е) Указать тов. Иоффе, что Политбюро имеет серьёзные опасения насчёт того, что Сунь Ятсен уделяет слишком большое внимание чисто военным операциям в ущерб организационно-подготовительной работе. …».
Политбюро отвергло предложение Сунь Ятсена о военных действиях Красной Армии в Маньчжурии, считая не без оснований, что это было бы связано с опасностью интервенции со стороны Японии.
1 мая А. А. Иоффе передал в Гуанчжоу «телеграмму Советского правительства Сунь Ятсену»: «Мы готовы предоставить Вашей организации сумму до двух миллионов золотых рублей для подготовки работы по воссоединению с Китаем и борьбы за национальную независимость. Эта сумма должна быть использована в течение одного года и выплачена несколькими частями по 500 000 рублей каждая… К сожалению, наша материальная помощь очень мала и составляет максимум 8 000 японских винтовок, 15 пулемётов, четыре пушки „орисака“ и два бронеавтомобиля».
В июне 1923 г. впервые в легальных условиях в столице Гуандуна собрался III съезд КПК. К этому времени КПК насчитывала в своих рядах всего 423 члена. Центральным пунктом повестки дня был вопрос об образовании единого фронта с Гоминьданом. О том, что собой представляла Китайская коммунистическая партия в 1923 г., М. М. Бородин писал следующее: «…Нельзя сказать, чтобы Киткомпартия участвовала в массовом движении… Коммунисты, если судить по тем, которых я встретил в Кантоне, очень смутно представляли себе, почему они являются членами компартии». III съезда КПК принял предложенную Коминтерном форму создания единого фронта: индивидуальное вступление коммунистов в Гоминьдан при сохранении политической и организационной самостоятельности КПК.
2 августа принимается решение направить в Китай полномочных представителей, с учётом предложения «т. Сталина»:
«Из протокола № 21 заседания Политбюро ЦК РКП(б)
2 августа 1923 г.
Опросом по телефону членов Политбюро
от 31. VII. 1923 г.
21. Предложение т. Сталина о назначении т. Бородина[53] политическим советником при Сунь Ятсене.
1) Назначить т. Бородина политическим советником при Сунь Ятсене, предложив ему выехать на место работы в четверг вместе с т. Караханом.
2) Поручить т. Бородину в своей работе с Сунь Ятсеном руководствоваться интересами национально-освободительного движения в Китае, отнюдь не увлекаясь целями насаждения коммунизма в Китае.
3) Обязать т. Бородина свою работу согласовывать с Полномочным Представителем СССР в Пекине, ведя переписку [с] Москвой через последнего.
4) Обязать т. Бородина периодически присылать отчёты о своей работе в Москву (по возможности в месяц раз)».
В указании М. М. Бородину в своей работе с Сунь Ятсеном не увлекаться «целями насаждения коммунизма в Китае», судя по всему, было записано с учётом заявления лидера Гоминьдана, изложенного в сообщении А. А. Иоффе и Сунь Ятсена, опубликованного 27 января 1923 г. по поводу советско-китайских отношений. Там было зафиксировано мнение д-ра Сунь Ятсена о том, «что в настоящее время коммунистический строй, или даже советская система не могут быть введены в Китае, так как там не существуют те условия, которые необходимы для успешного утверждения коммунизма или советизма…».
«Полномочным Представителем СССР в Пекине» был назначен Л. М. Карахан, который направлялся в Китай для переговоров с пекинским правительством о признании СССР.
Бородин вместе с Караханом выехали в Китай в начале августа 1923 г. 2 сентября они прибыли в Пекин. Политический советник при Сунь Ятсене вначале поехал на Северо-Восток, беседовал с Чжан Цзолинем, затем он выехал в Пекин и Шанхай. 6 октября он был в Гуанчжоу. Рекомендуя М. М. Бородина Сунь Ятсену, Л. М. Карахан писал 23 сентября 1923 г.: «Тов. Бородин – один из старейших членов нашей партии, много лет участвовавший в революционном движении в России. Считайте, пожалуйста, т. Бородина не только представителем правительства, но и моим личным представителем, с которым Вы можете говорить так же дружественно, как со мной». Бородин и Блюхер, политические и военные советники, направленные в Китай, должны были способствовать реорганизации Гоминьдана с целью превращения его в партию блока с КПК, как орган единого антиимпериалистического фронта.
Сунь Ятсен, который никогда в прошлом не имел твёрдой военной опоры в Китае, занялся созданием собственных надёжных военных кадров. Летом 1923 г. он послал в Москву делегацию военных работников во главе с начальником генерального штаба армии Южнокитайского правительства генералом Чан Кайши для изучения опыта Красной армии. В состав делегации помимо Чан Кайши входили генерал Шэнь Юанью, журналист Ван Дэнюнь и Чжан Тайлэй[54], деятель коммунистической партии Китая.
На руководящих членов китайской делегации советской стороной были подготовлены характеристики. О Чан Кайши, в частности, говорилось следующее: «Глава Генерального штаба. Получил военное образование в Японии. Принадлежит к левому крылу Гоминьдана, являясь одним из старейших членов партии. Пользуется большим доверием Сунь Ятсена. Очень близок к нам. В настоящее время отошёл от военной работы на Юге Китая. Поддерживает наш проект операций на Севере Китая (содержание проекта не установлено. – Авт. характеристики). Известен в Китае как один из образованнейших людей. Очень интересуется нашей политической работой в Красной армии, а также техникой её». За два года, прошедшие после составления характеристики нам удалось из близкого к Советскому Союзу человека сделать врага. Сам же Чан Кайши в ходе визита неоднократно демонстрировал свою близость с Советским Союзом.
Китайская делегация прибыла в Москву 2 сентября и отбыла в Китай 29 ноября 1923 г.
Во время встречи с заместителем председателя РВС СССР Э. М. Склянским и главкомом Красной армии С. С. Каменевым китайцами были высказаны советской стороне пожелания: во-первых, направить на Юг Китая возможно большее количество советских специалистов для обучения китайских военных; во-вторых, получить возможность ознакомиться с Красной армией; в-третьих, совместно обсудить план военных действий в Китае.
Центральным пунктом этого плана было создание с помощью СССР новой армии Сунь Ятсена, сформированной по образцу Красной армии на территории, близлежащей к югу от Урги, на границе Монголии с Китаем. Оттуда предполагалось, взаимодействуя с другими силами, наступать «второй колонной» на силы чжилийской группировки и на Пекин. Это был наиболее спорный пункт плана: даже символические шаги в этом направлении могли резко усилить напряжённость в отношениях России с западными державами и Японией, сделать ещё более жёсткой позицию пекинского правительства на переговорах о признании СССР.
Реакция Москвы на предложения и планы миссии Сунь Ятсена определялась несколькими обстоятельствами. Именно в период пребывания этой миссии в СССР внимание руководства РКП(б) и Коминтерна было поглощено планами развёртывания революции в Германии. Задачи материальной, а возможно и военной, поддержки германской революции – «последней надежды» на революционный взрыв на Западе, безусловно, оказывали влияние на принятие решений, чреватых масштабами вовлечения противоборствующих сторон в военные конфликты на Востоке.
Выступая на заседании ИККИ, Чан Кайши сформулировал идею сотрудничества Коминтерна и Гоминьдана, отражавшую как взгляды Сунь Ятсена, так и ожидания советского руководства. «Мы считаем, – заявил китайский генерал, – что фундаментальная база мировой революции находится в России… Партия Гоминьдан предлагает, чтобы Россия, Германия (конечно, после успеха революции в Германии) и Китай (после успеха китайской революции) образовали союз трёх крупных государств для борьбы с капиталистическим влиянием в мире. С помощью научных знаний немецкого народа, успеха революции в Китае, революционного духа русских товарищей и сельскохозяйственных продуктов этой страны мы смогли бы легко добиться успеха мировой революции, мы смогли бы свергнуть капиталистическую систему во всем мире».
Развивая эти мысли на встрече с Л. Д. Троцким, Чан Кайши выразил надежду, что «…в скором времени освобождённый Китай станет членом Советских Социалистических Республик России и Германии».
Троцкий в своём ответном выступлении остановился на соотношении военной и политической работы. Председатель Реввоенсовета СССР подчеркнул, что партия Гоминьдан «в настоящее время» должна всё своё внимание сосредоточить на политической работе, доведя до необходимого минимума военную часть деятельности. Под политической работой Троцкий имел в виду «длительную и упорную политическую подготовку широких народных масс». Это означало, что наибольшая часть внимания Гоминьдана должна была быть обращена на пропаганду. «Хорошая газета, – отметил Л. Д. Троцкий, – лучше, чем плохая дивизия».
Касаясь вопроса оказания военной помощи Китаю, Троцкий заявил: «Мы не отказываемся от оказания военной помощи, но при теперешнем стратегическом соотношении военных сил не представляется возможным оказать эту помощь войскам Суня. Вместо этого мы откроем наши школы для обучения китайских революционеров военному делу».
Уже в ходе повторной встречи со Склянским и Каменевым китайской делегации было сообщено, что Реввоенсовет «…считает возможным посылку китайских товарищей в Россию для размещения в военных учебных заведениях». В частности, в Военную академию РККА 3–7 человек, в военные училища – от 30 до 50 человек.
Как показал ход событий, несмотря на отказ Москвы поддержать военный план Суня, общие итоги миссии укрепили решимость Чан Кайши проводить политику «союза с Россией», ориентироваться на русский опыт в вопросах партийно-государственного и военного строительства. Советский Союз же, со своей стороны, пошёл значительно дальше принятых на себя ограничений в части предоставления военной помощи Китаю: направил инструкторов, организовал в стране военные школы, поставил оружие и боеприпасы, выделил финансовые средства.
Ещё до поездки китайской военной делегации в Москву летом 1923 г. в Южный Китай была направлена первая группа советских военных специалистов – слушателей Академии Генерального штаба РККА в составе пяти человек: И. Г. Герман[55], В. Е. Поляк[56], П. И. Смоленцев[57], Н. И. Терещатов[58] и А. И. Черепанов[59]. К этому времени правительство Сунь Ятсена контролировало лишь большую часть провинции Гуандун, на востоке которой держался региональный милитарист Чэнь Цзюнмин. Эти и другие советские военные советники, направлявшиеся в Китай, являлись поставщиками различной информации и разведданных с места событий.
Первый конгресс реорганизованного Гоминьдана состоялся в январе 1924 г. в Гуанчжоу. Конгресс принял манифест, программу, утвердил устав партии и официально оформил вступление коммунистов в Гоминьдан.
В выступлениях Сунь Ятсена и манифесте съезда Гоминьдана содержалась обновлённая интерпретация его «трёх народных принципов»[60].
В дальнейшем многие формулировки из документов съезда стали предметом спора и взаимных претензий, входивших в единый фронт политических сил. В частности, коммунисты трактовали курс, принятый Гоминьданом, как «три политические установки»: союз с СССР, сотрудничество с КПК и поддержка крестьян и рабочих. Однако в документах съезда присутствовала лишь формулировка о «допущении коммунистов в партию».
В ЦК РКП (б) продолжал дискутироваться вопрос: давать ли Суню оружие, а если давать, то на каких условиях? К началу января 1924 г. соответствующее решение не было принято.
Не дождавшись помощи Сунь Ятсену со стороны Советского Союза оружием и финансами, Карахан 8 января 1924 г. направил письмо Сталину, копии Троцкому, Зиновьеву и Чичерину. Карахан напоминал о решении Политбюро ЦК РКП (б) от 23 марта 1923 г. Полпред убеждал генсека в том, что «Сунь Ятсен принял все наши указания и советы» и «практически осуществляет всё то, что мы ему говорим». Кроме того, Сунь Ятсен, «отказавшись от всех широких военных планов, принял наше предложение об организации военной школы…». Карахан предупреждал, что в случае отказа в помощи Сунь Ятсену оружием он предвидит «серьёзные затруднения для дальнейшего нашего воздействия на Гоминьдан и серьёзные затруднения в работе т. Бородина, если не полную невозможность дальнейшего его пребывания в Кантоне». В заключение Карахан просил поставить этот вопрос в ЦК РКП (б) и принять окончательное решение.
Видимо, это письмо оказало определённое воздействие на советское руководство наряду с другими обстоятельствами. 20 марта 1924 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло постановление «отпустить 500000 рублей, 1000 винтовок и известное количество орудий…». Однако 27 марта вопрос о выдаче Сунь Ятсену оружия был пересмотрен и Политбюро решило выдать оружие в объёме, указанном в переданной А. А. Иоффе телеграмме 1 мая 1923 г. Из письма Г. В. Чичерина от 26 марта 1924 г. полпред узнал, что в Москве решено послать Сунь Ятсену оружие бесплатно.
12 апреля 1924 г. Сунь Ятсен обнародовал «Общую программу строительства государства». Государственное строительство планировалось проводить в три периода: «1) период военного правления, 2) период политической опеки, 3) период конституционного правления»[61].
Начавшаяся реорганизация Гоминьдана способствовала укреплению позиции правительства Сунь Ятсена в Гуандуне. Определённая стабилизация власти кантонского правительства благоприятствовала также созданию партийной армии. В условиях милитаристического разгула Гоминьдан мог действительно укрепить свои политические позиции только при наличии собственной эффективной военной силы, не зависящей от прихотей китайских генералов.
Помощь Суть Ятсену деньгами и оружием, обещанная в телеграмме советского правительства от 1 мая 1923 г., начала поступать спустя год с лишним. Подобные задержки были связаны с сомнениями Москвы относительно надёжности Сунь Ятсена и его партии, а также в связи с тем, что советское государство входило в полосу признания западными державами, и ему было нежелательно афишировать помощь китайским революционерам.
Только 8 октября советское правительство, наконец, доставило помощь на «пароходе „Воровский“ из Владивостока в Кантон, содержащем горные орудия, полевые орудия, длинные и короткие пушки, лёгкие и тяжёлые пулемёты и все виды боеприпасов, заказанных Доменом в России», например, «тысячи японских винтовок Тип 38, полевые орудия, горные орудия 20 или 30 орудий, около 100 тяжёлых пулемётов (лёгких пулемётов в то время не было), а также всевозможные боеприпасы, средства связи и т. д., два броневика и т. д., а всего около трёх тысяч тонн военной помощи в военных поставках».