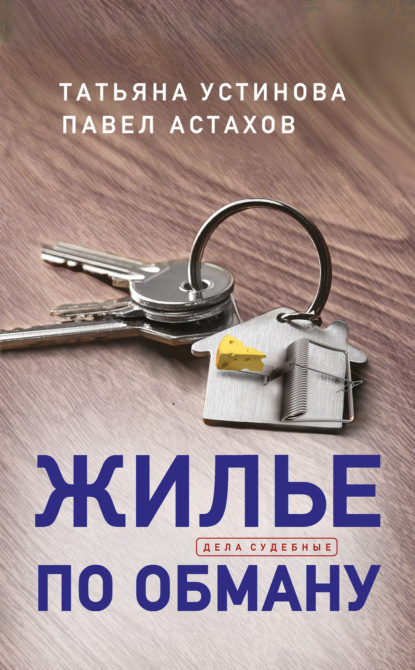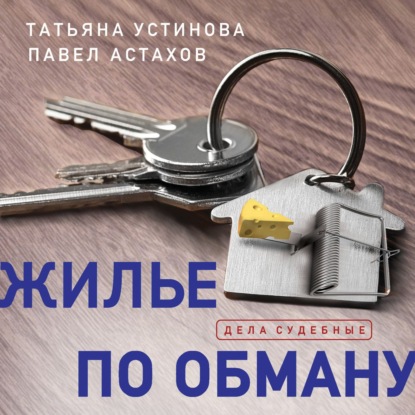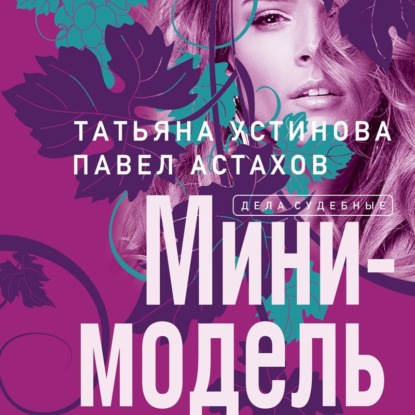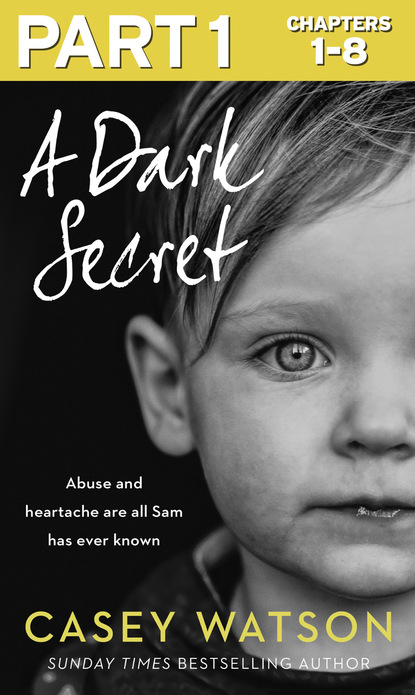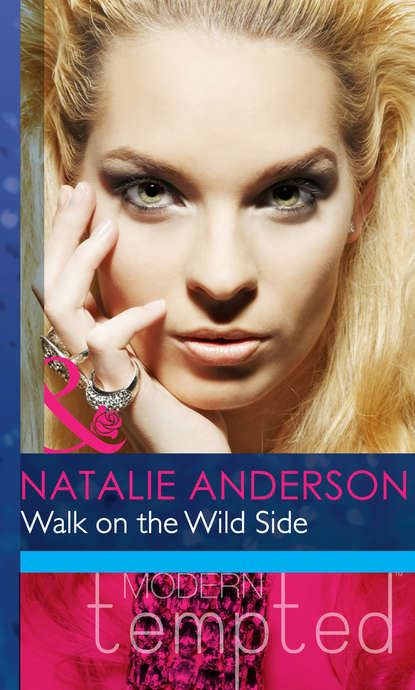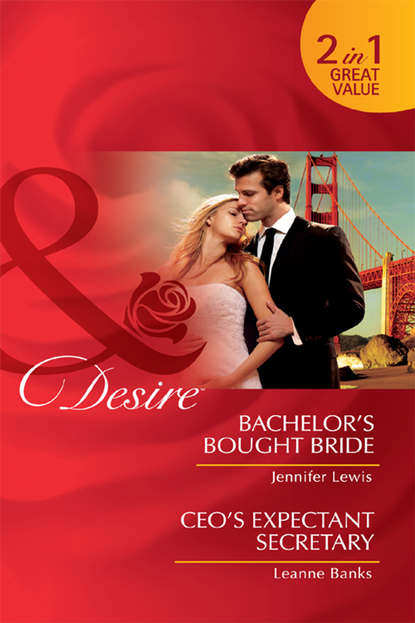Зигзаг у дачи
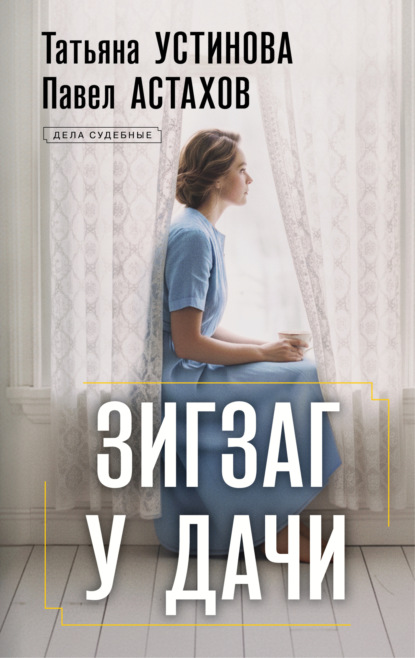
- -
- 100%
- +

© Астахов П., Устинова Т., 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026
⁂


1930-е годы
Село Рождествено
Агафон Матвеевич Дорофеев стоял перед развалинами храма Рождества Пресвятой Богородицы и глотал слезы. Здоровенный, косая сажень в плечах, крепкий еще пятидесятилетний мужик, здоровье которого не подкосили даже три года в ссылке на Урале, не стесняясь, плакал, глядя на руины взорванного большевиками храма. Нехристи, как есть нехристи.
С именами представителей дорофеевской семьи были связаны и расширение храма, и роспись его стен, и строительство новой колокольни. Из поколения в поколение Дорофеевы были главными пожертвователями, благодетелями, а также ктиторами храма.
Рождествено в начале двадцатого века являлось довольно крупным селом, в котором проживало больше тысячи человек. Были тут и купцы, и представители духовного звания, и, разумеется, крестьяне, имевшие с купцами самые крепкие связи как с основными приобретателями своей продукции.
Вся жизнь села была связана с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, который, без сомнения, являлся не только центром Рождествено, но и его сердцем. Купцов Дорофеевых чтили здесь как главных храмостроителей и благотворителей. До революции они занимались заготовкой яиц для отправки за границу, собирая в сезон до пятидесяти вагонов, а также торговали рыбой, говядиной, раками и икрой. Дорофеевым не только принадлежали пятьдесят десятин земли в округе, у них даже свои магазины в Москве и Твери имелись.
Отец Агафона – Матвей Сергеевич – сам был образованным человеком и об обучении сына позаботился. Мальчик окончил городское училище, а затем сельскохозяйственные курсы, но, женившись, жить вернулся в Рождествено. Здесь ему легче дышалось. После случившейся революции, даже двух, большевиков Агафон Матвеевич всерьез не принял. Не мог поверить, что эта шайка, состоявшая из местных пьяниц, бездельников, воров, попрошаек и бродяг, захватила власть надолго. Был уверен, что обычным людям, в том числе и крестьянам, никакая революция ни к чему.
За себя он не беспокоился, ведь жил, как и все его предки, истинным тружеником и патриотом, искренне любил святую Русь, соблюдал церковные каноны. И оказался не готов к полной конфискации имущества семьи, которая случилась в 1920 году. Всю семью Матвея Сергеевича, живущего с сыном после смерти жены, самого Агафона Матвеевича, а также троих его дочерей и жену Настасью, тогда на сносях, выгнали из дома на мороз, не дав даже одеться.
Матвей Сергеевич, разменявший восьмой десяток, кротким нравом не отличался. Выхватил ружье, что висело в сенях, да начал палить по обидчикам. Те ударили старика дубиной по голове. Добивали уже ножами. Прямо на глазах у сына, беременной снохи и внучек. В ту же ночь Настасья умерла в родах. Похоронив жену, а вместе с ней так и не родившегося малыша, Агафон отправил дочек, которым к тому моменту было от восьми до четырнадцати лет, в Москву, к дальним родственникам, а сам поселился в бедняцком домике на окраине села, покосившемся, со щелями, в которые заметало снег.
Собственный дорофеевский дом тогда разобрали, раскатали по бревнышку. Говорили, что эти крепкие, вековые бревна нужны на строительство новой школы и клуба. Да эти подробности враз постаревшему Агафону были без надобности.
Пережить ту первую зиму помогло то, что многие односельчане оказались людьми, помнящими добро. И сам Агафон, и отец его, Матвей Сергеевич, жили зажиточно, но и в долг давали легко, часто без отдачи. Многим своим односельчанам Дорофеевы помогли встать на ноги, и когда случилась беда, те в ответ приютили и помогали, кто чем может. Отдавали давно забытые долги продуктами, а кто и деньгами.
Больше всех помогал Платон Тихонов, вдовец, живущий вдвоем с дочерью Татьяной. На ней спустя год Агафон Матвеевич и женился. Татьяна оказалась женщиной тихой, богобоязненной и беззаветно любила мужа, хоть и был он старше ее на пятнадцать лет. Во втором браке родились еще трое детей, в том числе долгожданный сын, наследник, названный Ванечкой.
Кипучая деятельная дорофеевская натура проявила себя и в годы НЭПа, когда вместе с новой своей женой Дорофеев открыл небольшой магазинчик, торгующий полотном. Впрочем, вскоре поиски классовых врагов начались с новой силой, и в 1930 году Агафона Матвеевича арестовали и отправили на три года в ссылку на Урал.
И вот теперь он возвратился из ссылки в родное Рождествено, чтобы воссоединиться с семьей, и стоял перед взорванным недавно храмом, не стесняясь собственных слез. Уцелела лишь находящаяся рядом высокая полуразрушенная колокольня, та самая, что возвели на пожертвования его семьи.
Впрочем, и самого Рождествено больше не существовало. Родное его село стерли если не с лица земли, то уж совершенно точно с географических карт. В рамках борьбы с церковью и всем, что с ней связано, название посчитали неподходящим, и теперь носило село совсем другое, «революционное» имя.
Тяжесть, сковавшая грудь перед руинами храма и не дававшая вздохнуть, оказалась пророческой. В небольшой часовенке, чудом уцелевшей при сельском кладбище, Агафон Матвеевич пять лет прослужил церковным старостой. Собирал деньги в церковную кружку, а также приношения от прихожан, продавал восковые свечи и огарки, покупал все необходимое для церкви, вел приходно-расходные книги, поддерживал в чистоте и исправности ризницу и церковную утварь, топил печь.
Стал он совсем «божьим человеком», не думая о деньгах и не заботясь о пропитании семьи. Дом держался на Татьяне, а точнее, на принадлежащей ей швейной машинке, с помощью которой она обшивала всю округу, зарабатывая хотя бы на хлеб. Ну и односельчане по-прежнему не давали пропасть, поддерживая Дорофеевых по доброй памяти.
Люди, приходившие в кладбищенскую церковь, плакались старосте Агафону, жалуясь на тяжелую жизнь, на нищету, вызванную продналогами и продразверсткой, на голод. Спрашивали, как он думает, когда же закончатся их мучения. Агафон Дорофеев отвечал всем словами из Библии: «Все пройдет, пройдет и это». Кто-то донес, и старосту арестовали. Через три недели он был приговорен тройкой НКВД к расстрелу, приговор привели в исполнение в марте 1938 года, после чего Агафона Матвеевича похоронили в безвестной братской могиле.
Дочери от первой жены Анастасии, живущие в Москве, вышли замуж и в положенный срок сами стали матерями. Ваня, старший наследник от жены Татьяны, чтобы избавиться от клейма «сына врага народа» и поступить в институт, сразу после ареста отца тоже уехал в Москву, где сменил фамилию. Две младшие дочери остались в бывшем Рождествено, с матерью.
С отрекшимся от отца сыном Татьяна до самой смерти не разговаривала, хотя тот не раз приезжал в надежде на примирение. Даже дочку один раз привозил к бабушке, но и милая девчушка не растопила лед в сердце Татьяны. Не смогла она простить сына.
В январе 1957 года Татьяна Платоновна обратилась к прокурору района с просьбой о пересмотре дела ее расстрелянного мужа. Первоначально ей отказали, но в апреле 1989 года Агафон Матвеевич Дорофеев был реабилитирован, а в августе 2000 года причислен к лику новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском соборе Русской православной церкви в Москве для общецерковного почитания. Татьяна Платоновна этого уже не узнала, она умерла десятью годами ранее в возрасте девяноста семи лет, практически сразу после того, как добилась посмертной реабилитации мужа.
2020-е годы
Село Красные Холмы
Предложение продать дачный домик в деревне стало для Натки полной неожиданностью. С одной стороны, о продаже небольшого деревянного строения, доставшегося ей в подарок от одного из былых ухажеров, она никогда не думала. Приятно иметь дачу, куда можно вырваться летом, чтобы подышать свежим воздухом. Да и с соседями – бывшими школьными учителями, стариками Сизовыми – за много лет у Натки сложились очень добрые отношения.
Сизовы немало помогли ей с Сенькой, когда он был маленький, заменив мальчику бабушку с дедушкой, а сейчас охотно возились с Настюшкой. С другой стороны, Натка могла вырваться на дачу, чтобы пожить там, не больше двух недель за все лето. Работа не позволяла, да и не любила она неблагоустроенный деревенский быт. Сенька же проводил в деревне с поэтичным названием Красные Холмы все лето, вот только жил, разумеется, у Сизовых. Так это и после продажи дома возможно. Сизовы, у которых нет своих детей и внуков, и к Сеньке, и к Насте относятся как к родным, так что ничего для детей в плане каникул за городом не изменится.
Основным аргументом за продажу было то обстоятельство, что дом давно нуждался в ремонте, причем капитальном. Он и достался-то Натке потому, что такая халупа ее тогдашнему ухажеру была ни к чему, иначе вряд ли он «с барского плеча» отвалил бы ей пять соток земли всего-то в семидесяти километрах от Москвы, пусть и не по самому «модному» направлению, но все же.
За прошедшие годы домик совсем осел и скособочился. Зимой в нем никто не бывал, соответственно и не топил. Василий Петрович Сизов лишь пару раз протапливал печь перед началом летнего сезона, этим все и заканчивалось. В общем, дом нуждался в солидном ремонте, то есть в деньгах, которых у Натки и раньше не имелось, а сейчас и подавно. Двое детей и ипотека, какие уж тут ремонты.
Деньги были вторым аргументом в пользу того, чтобы согласиться с неожиданным предложением. За покосившуюся халупу с протекающей крышей и провалившимся крыльцом давали неожиданно приличную сумму, которую можно пустить на погашение все той же ипотеки. Сейчас откажешься – второй раз столько точно не предложат.
– Наташа, это и смущает, – осторожно сказал Таганцев, когда Натка поделилась с ним своими мыслями. – Дом старый, а сумма, прямо скажем, приличная. Зачем кому-то тратить такие деньги за пять соток без всякой надежды на расширение.
– Может, они еще и с соседями договорятся? – разумно предположила Натка. – Мне Сизовы говорили, что в деревне скупка земли началась. Они продавать отказались, конечно, у них же другого жилья нет, а вот Ковалевы согласились, и Рымбаловы тоже. Сам знаешь, после того как в деревне стройка началась, в ней все равно покоя не прибавилось. С мигрантами ты тогда, конечно, разобрался, но луг все равно уже застроили, дорогу к реке заборами перегородили, так что как прежде уже не будет.
– Наташа, дом твой, так что тебе и решать, – покачал головой Костя. – У меня все равно нет времени туда ездить, а дети, пока Сизовы живы, и так не пострадают. Старики им всегда рады. Так что хочешь продавать – продавай. Я не возражаю. Мне эта деревенская жизнь никогда не нравилась.
Подумав еще немного, Натка подписала договор купли-продажи. Она немного боялась, чтобы не обманули, но Таганцев подстраховал, так что деньги она получила вовремя и в полном объеме. Правда, ипотеку гасить не торопилась, положила всю сумму на счет в банке. Пусть лежат и прирастают процентами. Ставка Центробанка сейчас выше, чем проценты по их ипотечному кредиту, так что одна выгода с этой продажи. Честное слово.
Сизовы огорчились, конечно, но не из-за того, что Натка больше не станет приезжать в Красные Холмы.
– Вы с Костей можете считать, что наш дом – это и ваш дом тоже, – сказала Татьяна Ивановна, блестя глазами. – Вы в любое время можете приезжать к нам. И Сенечку с Настенькой оставлять тоже. И вообще мы тебя, Наташенька, в завещание вписали. Так что рано или поздно, а дом все равно вам достанется. Нам его больше завещать некому. Одни мы с Васенькой на всем белом свете.
Огорчила их смена владельцев дома. Вдруг рядом поселятся какие-то неприятные люди? Нет ничего хуже, чем собачиться с соседями. Натке было немного не по себе от того, что старики так волнуются и она – причина их тревог, но не отказываться же из-за этого от выгодной сделки.
К концу мая все формальности были соблюдены, оставалось лишь передать ключи, а для этого предстояло съездить в деревню в последний раз, чтобы забрать из дома немногие хранящиеся там личные вещи. Натка тянула до последнего, потому что Костя был в командировке, а машина – в ремонте. Выручила сестра Лена, согласилась в субботний день свозить Натку в Красные Холмы.
– Немного жаль все-таки дома, – задумчиво сказала она, когда ее автомобиль свернул с трассы и, поднимая столб пыли, двинулся по проселочной деревенской дороге. – Много хороших моментов с ним связано.
– Сизовы сказали, что и ты можешь к ним приезжать в любое время, – заметила Натка.
– Да мне есть где проводить выходные, – Лена засмеялась. – Хотя в доме Виталия теперь живет Варвара с семьей, но загородные отели никто не отменял. Да и Виталий загорелся идеей построить новый дом. А зная его пробивной характер, можно не сомневаться, что через год-другой будем владельцами загородной недвижимости.
– Он и в тот дом, что Варваре отдал, никогда не ездил, – пожала плечами Натка. – Зачем ему еще один? При вашей помешанности на работе и любви к загазованному мегаполису вы и туда ездить не будете.
За разговором не заметили, как доехали до дома Сизовых. Он был не чета Наткиному – основательный, кирпичный, с проведенным отоплением и водоснабжением от скважины. Лет пятнадцать тому назад, когда Сизовы вышли на пенсию, они продали свою московскую квартиру, решив, что на пенсии лучше жить на свежем воздухе, а на вырученные деньги полностью перестроили дом, подведя к нему все коммуникации.
Разумеется, деньги еще и остались, так что старики положили их в какой-то частный банк под бешеный процент в надежде получить достойную прибавку к пенсии. Спустя пару лет банк, конечно, лопнул, а управляющий его сбежал со всеми деньгами вкладчиков. Так что старики остались ни с чем. Произошло это еще до того, как Натка получила в подарок домишко по соседству, и уж тем более задолго до того, как с Сизовыми познакомился Костя Таганцев, так что помочь им никто не смог, да и не пытался.
Эту грустную историю Натка знала во всех деталях, потому что старики рассказывали ее часто, сочувствовала, но особо не вникала. Что ворошить былое, если сделать ничего нельзя.
Василий Петрович и Татьяна Ивановна, предупрежденные о том, что Натка и Лена приедут, ждали их на улице. При виде сестер, вылезающих из машины, Татьяна Ивановна огорченно всплеснула руками.
– Деточек что же не взяла, Наташенька? Так уж я по ним соскучилась. С майских праздников не виделись.
– Да мы решили по-быстрому, туда и обратно, дел много, – виновато объяснила Натка. – Да и до каникул меньше недели осталось, Татьяна Ивановна. У Сеньки, правда, еще соревнования по плаванию в середине июня, но все равно меньше чем через месяц он к вам до конца лета приедет.
– А Настенька? – всполошилась Сизова.
– И Настюшка тоже. Она уже каждый день мечтает о ваших блинах со сгущенкой и топленом молоке. Ждет не дождется, пока у бабы Тани окажется.
Сизова просияла.
– А я блинов-то и сегодня напекла. Проходите, чаю попьете с дороги.
– Пусть Лена пьет чай, а я пока вещи соберу, – решила Натка.
– Может, тебе помочь? – предложила ей сестра.
– Да там немного. Я же тут не хранила ничего. Так, по мелочи. Я быстро управлюсь.
Она ушла, а Лена в ожидании чая осталась в сизовском доме, прошлась вдоль стен, сплошь усеянных фотографиями. На одной можно было разглядеть молодых еще Василия Петровича и Татьяну Ивановну, стоящих на берегу какой-то реки, большой, полноводной, и влюбленно смотрящих друг на друга. Они были просто загляденье, какие красивые. И счастливые.
– Что? Смотришь, какие мы с Васенькой были?
– Красивые очень. Это вы где?
– На Иртыше. В Казахстане. Целину поднимали.
И, видя искренний интерес Елены Кузнецовой, Татьяна Ивановна начала рассказывать.
В 1965 году была она девятнадцатилетней Танечкой, студенткой Ставропольского педагогического института, только что успешно сдавшей летнюю сессию и перешедшей со второго курса на третий. Летние каникулы вместе с друзьями решили провести, поднимая целину. Жили в разбитом на берегу Иртыша палаточном лагере, строили жилые дома и места общего пользования. Правда, худосочная Татьяна в строительстве не участвовала, была в стройотряде стряпухой, потому что уже тогда готовила не просто хорошо, а отменно.
– В соседнем палаточном лагере расположились студенты не абы откуда, а из Первого московского института иностранных языков, – с удовольствием рассказывала о прошлом Татьяна Ивановна. – И среди них мой Вася. Я его как-то сразу глазом выцепила из толпы, хотя он был не самый высокий и не самый красивый. У них заводилой считался Толик Белов, вот тот уж красавец так красавец, все девчонки из-за него чуть ли не дрались. Чуб у него такой вился, кудрявый. И рост под два метра. А по вечерам устраивали танцы. Вот Толик однажды меня и пригласил. То ли назло остальным девчонкам, то ли из-за того, что я на него внимания не обращала, а его это заводило ужасно.
– И вы пошли? – улыбнулась Лена, представив эту картину.
– Пошла. Неудобно было отказывать, а он во время танца начал меня в сторону кустов тянуть. Мол, чего упираешься, несговорчивая такая. Ничего бы он мне такого не сделал, тогда-то не в моде было, нравов все были строгих. Просто поцеловать хотел, но я и на то не соглашалась. Меня так родители воспитали, что нельзя дарить поцелуя без любви. Нынешней-то молодежи смешно, а для нас обыденно было. В общем, я упираюсь, Толик меня за руку тянет, рассвирепел даже, что я упрямая такая. И тут Вася подходит. Ниже Толика на целую голову, худощавый, в очочках своих круглых.
– Драка была?
– А как же, – с нескрываемым удовольствием подтвердила Татьяна Ивановна. – Да Вася еще и победителем из нее вышел. Он, оказывается, боксом увлекался. Любительским, во дворе с мальчишками тренер какой-то известный занимался. Вася нанес Толику какой-то удар, от которого тот в нокаут и свалился. Правда, успел до этого Васе бровь разбить. Картина нарисовалась та еще. Кровища из рассеченной брови хлещет, на землю капает, у ног поверженный враг, а Вася меня так крепко за руку держит. «Пойдем, – говорит, – отсюда». Так меня больше и не отпускал никогда.
Вернулась Натка, принесла сумку с вещами. Положила на стол ключ от своего теперь уже бывшего дома.
– Татьяна Ивановна, вы ключ новым хозяевам отдайте, пожалуйста, когда они приедут.
– Так передам, чего ж не передать, – пожилая женщина вздохнула. – Как-то неспокойно у меня на душе, Наташенька. Не к добру эти новые дом купили, ой не к добру.
Старые люди не любят перемен, это Натка отлично знала.
– Может, они еще лучше нашего будут, – дипломатично сказала она. – Мы и приезжали-то всего пару раз за все лето, а дому настоящий хозяин нужен. Да и вам помощь и присмотр. А то у меня иногда душа болит, что вы тут зимой фактически одни остаетесь.
– Да уж. Когда-то Красные Холмы большим селом были. Тут чуть ли не тысяча семей жила. Но мы-то это время не застали. Когда мы наш домик купили, тут уже меньше ста домов было, а сейчас, почитай, вообще тридцать, да и то зимой не все живут.
Сизова махнула рукой.
– А как вы вообще в Красных Холмах очутились? – полюбопытствовала Лена. – В Москве-то я понимаю как. Вас Василий Петрович привез.
– Да. Мы после того первого лета на Иртыше расстались, конечно. Я в Ставрополь вернулась, Вася – в Москву. Но каждый месяц виделись. То он ко мне прилетал, то я к нему. Чтобы летать друг к другу, он, конечно, даже вагоны по ночам разгружал, чтобы денег на билеты заработать, а я на зимние каникулы да на майские праздники приезжала. У меня в Москве родственники были, так что я у них останавливалась. Мой отец-то московский был, а на Ставрополье вслед за мамой уехал. Прятались они там.
– От кого прятались? – не поняла Натка.
Татьяна Ивановна поджала губы.
– От НКВД, от кого тогда еще прятались. Я, деточки, подробности не очень знаю. Родители мои не любили про это говорить. Всю жизнь в страхе прожили. Папа мой, чтобы от репрессий уцелеть, фамилию даже сменил. Но и это не помогло. Институт-то он окончил, а на работу его не брали, узнали, что сын врага народа. Он тогда на матери моей женился, ее фамилию взял, стал Агафонов. А потом они и вовсе из Москвы уехали. Мама-то со Ставрополья была, из небольшого села, там они и затерялись. Но с родней папа отношения поддерживал. Особенно со своей сестрой, тетей Клавой. Переписывались они. Потом война началась, папа на фронт ушел. Повезло ему в живых остаться и вернуться домой. Я в сорок шестом году уже родилась. После войны то есть. Помню, в детстве мы с папой в Москву приезжали, и он повез меня куда-то в эти края. То ли в Красные Холмы, то ли куда-то в село по соседству. Мне года три было, так что все смутно очень в памяти запечатлелось. Помню только дом не очень большой, старый, требующий ремонта, вот как ваш сейчас. И еще каких-то людей, которые гонят нас оттуда, говорят, чтобы мы уезжали.
– Почему гонят?
– Не знаю. Папа никогда не рассказывал. Вообще он про детство свое, про юность говорить не любил, словно и не было у него прошлого до того, как он на маме женился и стал Агафоновым. Но это точно не тетя Клава была. Ту я знала, в Москве всегда у нее останавливалась. В семидесятом году мы с Васей поженились, и я в столицу перевелась. В педагогический институт. Родители мои на нашу свадьбу приезжали.
Татьяна Ивановна сняла со стены и протянула гостьям еще одну фотографию. На ней счастливые молодожены – она сама в белом коротком платье и фате по плечи, Василий Петрович в черном костюме – стояли рядом с двумя парами постарше, видимо, с родителями.
У Василия Петровича отец был военный, офицер с погонами полковника, а мама – типичная учительница с гладкой прической и строгим лицом. У Татьяны Ивановны родители выглядели попроще, сразу видно, что сельские труженики. У отца взгляд тяжелый, а у матери словно раз и навсегда испуганный. Натка жалостливо вздохнула.
– В начале семьдесят первого сынок наш родился, – Татьяна Ивановна достала альбом с фотографиями, в нем больше десятка черно-белых снимков смешного карапуза с кудрявыми волосиками. Сначала совсем кроха, от фотографии к фотографии он становился старше и смешнее. – Вот тут мы только из роддома приехали. Вот тут ему полгода. А вот годик. Это он у Васеньки на руках. А здесь мы в парке Горького гуляем. Костику уже три.
Значит, сына Сизовых звали Костиком. Раньше Татьяна Ивановна никогда о нем не говорила, хотя фотография красивого улыбчивого парня висела у нее на стене среди остальных, с рассматривания которых и начался сегодняшний разговор. Натка знала, что сын Сизовых погиб в Афгане, и не бередила глубокую рану, оставшуюся в сердце матери.
– Жили мы ладно да складно. Мы же с Васенькой за все годы даже не поссорились ни разу, – Татьяна Ивановна снова улыбнулась. – Квартира нам досталась от его родителей. Мы оба учителями в школе работали. Я русский язык преподавала, Васенька – иностранный. Немецкий, точнее. Его в свое время военным переводчиком приглашали, а он отказался, остался в школе, чтобы в командировки не ездить, быть со мной и с сыном. Каждую свободную минуточку мы старались вместе проводить. Словно знали, что недолго нам радоваться.
Пожилая женщина тяжело вздохнула. Вытерла глаза кончиком фартука, который не снимала, кажется, никогда.
– Ужасно-ужасно, – Натка передернула плечами.
Ей даже представить было страшно, каково это – похоронить единственного сына.
– Ужасно, да, – согласилась Татьяна Ивановна. – Костик-то после школы сознательно в армию пошел. Не стал в институт поступать, сказал, что сначала отслужит, а уже потом учиться будет. Отправили его в Афганистан, исполнять интернациональный долг. Я уж так плакала в тот день, когда их отправляли, так плакала. Сердцем чувствовала, что больше его не увижу. Вскоре он и погиб. Остались мы с Васенькой одни на всем белом свете. Родители наши к тому моменту тоже умерли, а мне в наследство от моих дом на Ставрополье остался. Мы его продали, свои деньги добавили (мы сыну на кооперативную квартиру копили, хотели взять, как из армии придет, а не довелось) и купили этот вот земельный участок с домиком, что на месте этого стоял. Место специально это выбрали, пусть непрестижное, зато зеленое, да и папа мой корнями отсюда. Тянуло меня сюда. Все-таки понятие «родина» не пустой звук, пусть ничего я про прошлое своей семьи и не знаю. Дом нам с Васей и не дал пропасть после смерти сына. Мы долго горевали, оплакивали Костика, но жизнь-то продолжается. Так бог рассудил, не нам на него пенять. Так что мы храним память о сыне, молимся за упокой его безгрешной души да стараемся людям помогать, добрые дела совершать, а злые стороной обходить. А уж как на пенсию вышли, так московскую квартиру продали, дом перестроили и совсем тут поселились. Да, впрочем, это вы и так знаете.