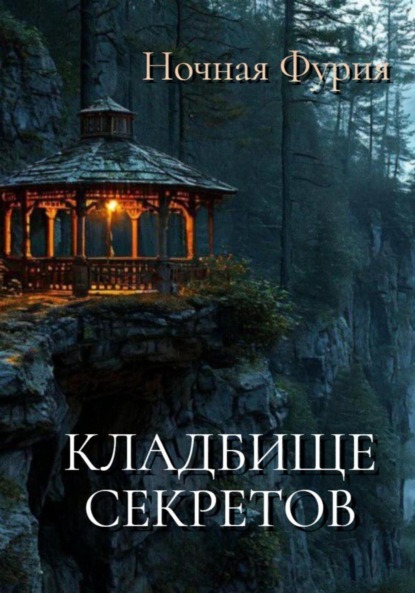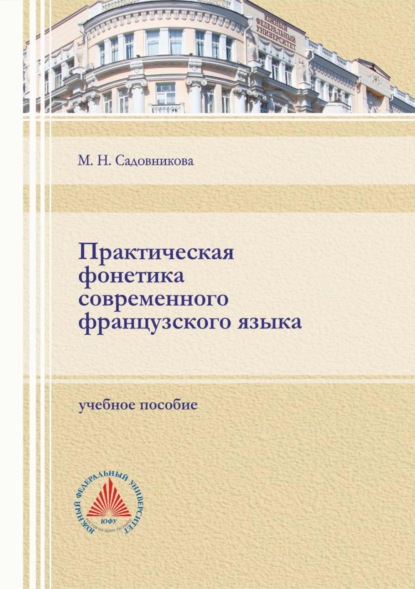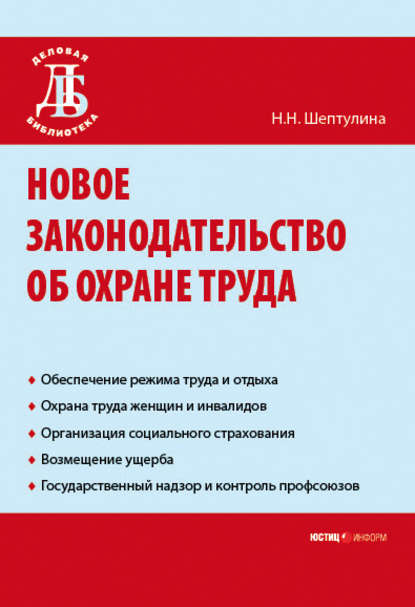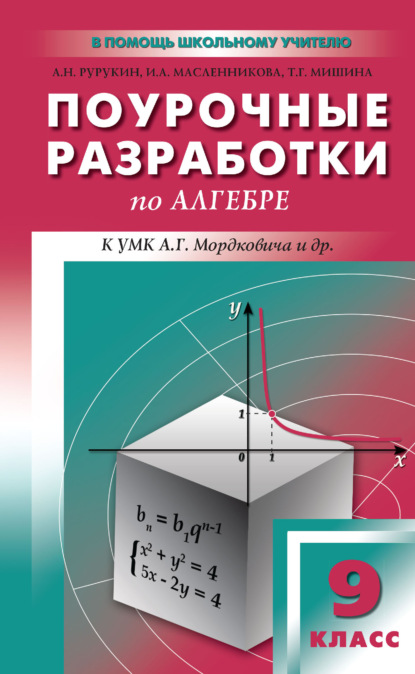Токсичные родители и сила рода. Как выжить и исцелиться
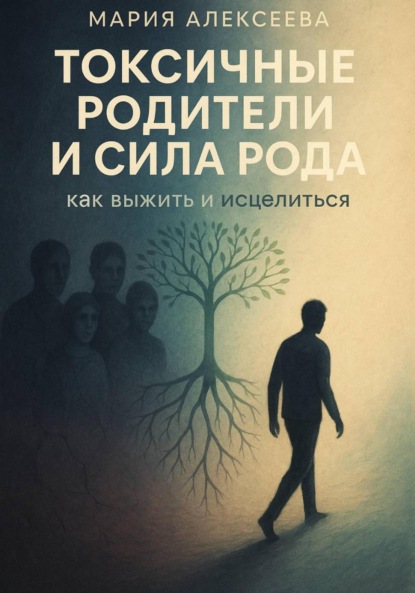
- -
- 100%
- +
– «они делали всё, что могли, так что мне не на что жаловаться»
при внешней благопристойности часто означают:
– «я до сих пор не отделился(лась), мои оценки мира всё ещё идут через их оправдание».
Когда вы говорите:
– «они делали, как умели, но это были искажающие, травмирующие способы»,
вы уже ставите внутреннюю границу:
«их поведение – одно, моя жизнь сейчас – другое».
Это снижает риск уйти в крайности
Если не проделать работы с фактами, легко застрять в двух полярностях:
– либо вечное оправдание родителей и обесценивание себя;
– либо тотальный гнев и обесценивание всего семейного опыта.
Честная инвентаризация с уважением к сложной реальности – лучший противоядие и от слияния, и от полного разрыва.
Почему важно не впадать в истерику и не вешать ярлыки на всех подряд
Истерика мешает вам услышать самого себя
Сильные эмоции – нормальны. Злость, обида, боль часто впервые выходят наружу именно в процессе инвентаризации.
Но если позволить себе только обвиняющий крик:
– «они разрушили мне жизнь!»
– «всё из‑за них!»
то вы опять оказываетесь в позиции беспомощного ребёнка, который зависит от родителей.
Задача инвентаризации – потихоньку переходить из режима «я маленький, меня обидели» в режим «я взрослый(ая), со мной это произошло, и теперь я могу выбирать, что делать».
Чувства нужно проживать, но не отдавая им всё управление.
Тотальные ярлыки лишают вас свободы видеть нюансы
Фразы:
– «все родители – токсичные»,
– «всем нельзя доверять»,
– «семья – зло»
дают иллюзию силы через обесценивание. Но они же отрезают вас от возможности встретить других людей, других взрослых, другие форматы отношений.
Если все «одинаковые», то нет смысла в терапии, развитии, выборе партнёров осознанно. Тогда сценарий действительно становится неизменным.
Ваша цель – научиться различать:
– где есть токсичность, а где её нет;
– где просто несовершенство живых людей;
– где вы сами повторяете родительский стиль;
– где человек рядом с вами другой, и ваши старые способы защиты уже не нужны.
Ненависть не даёт опоры
Иногда кажется: если я буду достаточно сильно ненавидеть родителей, мне станет легче. Но ненависть так же крепко привязывает, как и идеализация.
Чем больше энергии уходит на ожесточение, тем меньше остаётся на построение своей жизни.
Инвентаризация предлагает другой путь:
– признать травму;
– признать влияние;
– позволить себе чувствовать злость, боль, презрение – но не делать из них свою единственную идентичность.
Трезвость – основа для дальнейших шагов
Все следующие этапы – работа с границами, с родовыми сценариями, с чувством вины и стыда, с построением своих отношений – требуют внутренней опоры.
Эта опора строится на трёх «кирпичиках»:
– я верю своим ощущениям;
– я вижу факты;
– я сохраняю способность различать, а не всё смешивать.
Честная инвентаризация без громких ярлыков и истерики – практический способ тренировать эту трезвость.
Как понять, что вы движетесь в верном направлении
Признаки здоровой работы над инвентаризацией:
– вы постепенно формулируете всё точнее и конкретнее;
– у вас появляются одновременно и больше сочувствия к себе, и больше ясности насчёт того, что было недопустимо;
– вы всё реже говорите «они такие чудовища» и «у меня всё было нормально», и всё чаще – «да, было и то, и другое, и вот так это на меня повлияло»;
– вы начинаете замечать не только, что вам сделали, но и что вы теперь сами делаете с собой и с другими, исходя из этого опыта.
Первая честная инвентаризация – это не одноразовое упражнение, а процесс. Вы можете возвращаться к ней много раз, каждый раз замечая новые слои.
Важно помнить: вы делаете это не затем, чтобы навсегда остаться в роли пострадавшего, а затем, чтобы перестать быть заложником неосознанного прошлого.
Назвать то, что с вами сделали, – значит сделать первый шаг к тому, чтобы дальше с собой поступать по‑другому.
Тема 1.8. Первое разрешение себе: мне можно чувствовать и сомневаться
– Разрешение себе испытывать обиду, злость, растерянность, без чувства вины
– Зачем нужно признать собственную боль, прежде чем что‑то менять
Почти каждый человек, выросший в токсичной или эмоционально незрелой семье, несёт внутри один общий запрет: «мне нельзя чувствовать так, как я чувствую на самом деле».
Нельзя обижаться на родителей – «они же старались».
Нельзя злиться – «как ты смеешь злиться на мать/отца».
Нельзя сомневаться в семейной «норме» – «у всех так, не выдумывай».
Нельзя быть растерянным, слабым, не понимать – «соберись, не разнылся».
Вместо прямого запрета в детстве часто звучали другие слова, но смысл был один: твои чувства – лишние, неправильные, неудобные.
Эта глава – о первой внутренней революции, без которой любые изменения остаются поверхностными:
«Мне можно чувствовать.
Мне можно сомневаться.
Мне можно не соглашаться с тем, что со мной делали.
И мне не нужно просить на это разрешения у тех, кто когда‑то эти чувства подавил».
Почему в токсичной семье чувства становятся запретными
Чтобы разрешить себе чувствовать, важно честно посмотреть, что именно запретили.
В детстве родительская система – это абсолют. Ребёнок не может уйти, не может «выбрать себе других родителей», не может выжить автономно. Поэтому психика делает всё, чтобы сохранить связь с этой системой любой ценой.
Если родители:
– кричат и пугают,
– стыдят за слёзы и обиду,
– обесценивают переживания: «ерундой страдаешь»,
– наказывают за несогласие,
– смеются над чувствами,
– выставляют себя вечными жертвами: «я для тебя всё, а ты…»,
то ребёнку приходится выбирать:
либо доверять своим ощущениям («мне больно, страшно, обидно»)
– и тогда родные люди оказываются источником опасности;
либо объявить свои чувства «неправильными»
– и оставить родителей «хорошими», мир – устойчивым.
Большинство выбирает второе, просто потому что иначе слишком страшно. Так появляются:
– хронический стыд за свои реакции;
– привычка задавливать обиду, злость, разочарование;
– автоматическое «наверное, это я что‑то не так чувствую».
Взрослея, человек часто даже не осознаёт, что живёт под этим запретом. Он считает себя:
– «слишком чувствительным»,
– «слабым»,
– «нервным»,
– «плохим, неблагодарным ребёнком»,
вместо того чтобы признать:
«Мне много лет запрещали чувствовать то, что я чувствовал(а) реально».
Какие чувства особенно табуируются
Обида
В токсичных семьях обиду воспринимают как обвинение.
Ребёнок, который говорит: «мне обидно», как будто говорит: «ты плохой родитель». Это невыносимо для взрослого, который сам не умеет справляться со стыдом и виной, поэтому он защищается:
– «Ты слишком всё близко к сердцу принимаешь»
– «Это ты всё придумал(а)»
– «Обижаются только слабые»
– «Тебе мало дали, что ли?»
Сообщение: «если тебе обидно, значит, с тобой что‑то не так».
Ребёнок учится:
– не замечать свои обиды;
– не говорить о них;
– превращать их в «я неблагодарный(ая)» или «со мной что‑то не в порядке».
Злость
Стабильно запрещённое чувство.
Злость ребёнка родитель воспринимает как угрозу:
– своей власти («злится – значит, не подчиняется»),
– своему образу («значит, я плохой/плохая»),
– своей хрупкой психике (сам не умеет с ней справляться).
Реакция на злость часто бывает такой:
– высмеивание: «ну, давай, повозмущайся»;
– наказание: «будешь огрызаться – получишь»;
– обращение злости против ребёнка: «это из‑за тебя всё, ты меня до инфаркта доведёшь».
Сообщение: «злиться опасно, от злости разрушатся отношения, ты останешься один».
Взрослый человек из такого фона:
– либо не умеет злиться и превращает злость в аутоагрессию (болезни, самокритика, самонаказание);
– либо срывается в разрушительные вспышки, потому что копит до последнего.
Растерянность, сомнения, слабость
Токсичный родитель часто сам боится своей слабости. Чужая уязвимость его пугает, потому что напоминает о его собственной.
Поэтому вместо поддержки вы слышали:
– «не выдумывай, всё просто»;
– «что тут думать, делай, как сказано»;
– «всё ты понимаешь, не строй из себя»;
– «сопли подотри и вперёд».
Сообщение: «сомневаться, чего‑то не понимать, быть растерянным – стыдно. Нормальные люди всегда уверены и собраны».
Взрослый потом стесняется признаться:
– «мне страшно»,
– «я не знаю, чего хочу»,
– «я не понимаю, нормально ли то, что со мной происходило».
Ему проще сыграть роль сильного или наоборот – полностью зависимого, чем позволить себе живые колебания.
Грусть, боль, одиночество
Часто на них просто нет места в психике родителей:
– «не расстраивай меня»;
– «перестань плакать, у меня и так голова болит»;
– «что ты тут раскис(ла), мне хуже, чем тебе»;
– «Хочешь, чтобы я умер(ла) от переживаний?»
Сообщение: «твоя боль – лишний груз, который я не собираюсь нести. Если тебе плохо – это твоя проблема, но ещё и мой раздражитель».
Ребёнок усваивает:
– мои чувства никому не нужны;
– если мне плохо, лучше спрятаться;
– просить поддержки опасно.
Почему без разрешения чувствовать изменения не работают
Многие люди пытаются «улучшать жизнь» поверх этого запрета:
– «выйти из токсичных отношений»;
– «научиться говорить “нет”»;
– «построить границы с родителями»;
– «стать увереннее, успешнее».
Но если внутри всё ещё звучит: «мне нельзя злиться, обижаться, сомневаться», то любое действие быстро наталкивается на внутренний стоп:
– вы пробуете отказать – и вас накрывает волна вины и стыда;
– вы пытаетесь говорить о своих потребностях – и внутри звучит: «ты слишком много хочешь»;
– вы начинаете замечать, что в детстве было плохо – и тут же отзываете свои слова: «ну нет, не так уж и плохо, я преувеличиваю».
До тех пор, пока чувства не признаны законными, любой шаг к изменениям будет восприниматься частью психики как преступление.
Разрешение чувствовать – это как снять замок с двери, которую вы всё время пытались открыть силой.
Что значит «разрешить себе чувствовать» на практике
Это не про то, чтобы постоянно жить в эмоциях, плакать/кричать сутками, обвинять всех подряд.
Разрешение себе чувствовать – это:
Признать, что то, что вы чувствуете, реально.
Не «я придумываю», а: «я действительно сейчас злюсь / обижаюсь / мне больно / мне страшно / я сомневаюсь».
Перестать оценивать чувства как «правильные» / «неправильные».
Чувства не бывают правильными или неправильными. Они просто сигнал о том, как ваша психика реагирует на ситуацию.
Отделить чувство от действия.
Мне можно злиться – это не значит, что мне можно оскорблять, бить, разрушать.
Мне можно обижаться – это не значит, что я обязан(а) разрывать связь или мстить.
Разрешение чувств не равно импульсивные поступки. Это про внутреннее признание: «то, что со мной внутри, – имеет право быть».
Остановить автоматическое самоподавление.
Каждый раз, когда внутри поднимается волна и сразу включается:
– «не драматизируй»,
– «перестань думать об этом»,
– «никому не интересно»,
– «ты неблагодарный(ая)»,
попробуйте ввести новую фразу:
«Стоп. Я сначала признаю, что чувствую. Разбираться, что с этим делать, буду потом».
Как может звучать первое внутреннее разрешение
Это можно прямо записать и возвращаться к этим фразам:
– Мне можно обижаться на родителей, даже если они «старались как могли».
– Мне можно злиться на то, как со мной обращались. Злость не делает меня плохим человеком.
– Мне можно быть растерянным и не понимать до конца, что именно со мной происходило.
– Мне можно сомневаться в семейной «норме», даже если все вокруг говорят, что у меня было хорошее детство.
– Мне можно признать свою боль, даже если у кого‑то было хуже.
– Мне можно чувствовать по‑разному к одним и тем же людям: и любовь, и злость, и благодарность, и обиду.
Эти фразы не обязаны сразу «ощущаться настоящими». Сначала они могут звучать как чужой текст. Это нормально.
Разрешение себе – это процесс, а не мгновенное переключение.
Почему так страшно признать свою боль
Страх стать «плохим ребёнком»
Внутри живёт запрет: «о родителях плохо не говорят».
Признать, что мне было больно рядом с мамой/отцом – как будто предать их.
Срабатывает древняя лояльность:
– «лучше я буду плохим для себя, чем плохим для них».
Страх разрушения внутреннего мира
Родители – фундамент нашей психики, особенно в раннем детстве.
Признание: «они могли причинять мне боль и даже зло»
пугает тем, что может «обрушить» привычную картину:
– «они хорошие, я плохой»
заменяется на что‑то сложное:
– «они сложные, они и любили, и ранили; я был(а) не виноват(а) в их поведении».
Это требует внутренней перестройки, а перестройка всегда пугает.
Страх, что боль накроет и не отпустит
Многие боятся: если я позволю себе почувствовать, всё выйдет из‑под контроля, я «развалюсь».
Этот страх неудивителен, если в детстве рядом не было взрослого, который выдерживал бы ваши чувства.
Но разница в том, что сейчас вы уже не ребёнок. У вас есть ресурсы: знания, время, возможная поддержка, внутренняя способность выдерживать больше, чем тогда.
Страх обесценить всё хорошее
Часто звучит:
– «если я признаю, что было плохо, значит, я отвергну всё хорошее, что они делали»;
– «я обязан(а) выбирать: либо родитель полностью хороший, либо полностью плохой».
На самом деле зрелость – в умении удерживать одновременно:
– хорошие моменты, вложения, заботу
и
– обесценивающие, травмирующие эпизоды.
Признание боли не стирает хорошего. Оно делает картину полной.
Зачем обязательно признать собственную боль, прежде чем что‑то менять.
Без признания боли нет мотивации для глубинных изменений
Пока вы рассказываете себе:
– «со мной всё нормально»,
– «да, было тяжело, но я уже пережил(а)»,
– «не стоит копаться»,
у вас нет внутреннего основания действительно менять сценарий.
Осознанные изменения почти всегда рождаются из честного соприкосновения с тем, как было:
– «Да, мне было одиноко»;
– «Да, меня часто стыдили»;
– «Да, я до сих пор реагирую, как тогда».
Только тогда появляется живое «я больше так не хочу» – не из моды на психотерапию, а из внутренней необходимости.
Без признания боли вы продолжаете защищать тех, кто вас ранил, вместо себя
Когда вы оправдываете родителей, вы оставляете без защиты себя маленького(ую).
Внутренний ребёнок снова получает сообщение:
– «твоей боли нет места, важнее то, чтобы взрослым было не стыдно и не больно».
Признать боль – значит впервые встать на свою сторону.
Сказать себе:
– «то, что ты чувствовал(а), имеет значение»;
– «я вижу, что с тобой было несправедливо».
Это и есть начало настоящего внутреннего родительства – того, чего не хватало тогда.
Боль – как карта старых ран, по которой можно строить маршрут исцеления
Нераспознанная боль проявляется:
– в тревоге;
– в симптомах;
– в странных выборах;
– в повторении сценариев.
Признанная боль превращается в карту:
– здесь мне не хватало безопасности – значит, важно учиться её создавать;
– здесь меня стыдили – значит, нужно работать с чувством стыда;
– здесь меня использовали – значит, важно учиться границам.
Иначе вы будете пытаться «улучшать жизнь» в абстракции, не понимая, где именно кровь.
Признание боли даёт возможность остановить передачу травмы дальше
Пока вы не видите своей боли, вы невольно воспроизводите то, что с вами делали:
– стыдите своих детей за чувства;
– обесцениваете партнёра;
– игнорируете своё тело;
– повторяете родительский тон.
Признанная боль вызывает естественное:
– «я не хочу, чтобы так чувствовали себя мои дети»;
– «я не хочу обращаться с собой так, как со мной обращались».
Это не гарантия, но сильный стимул тормозить там, где раньше действовал автопилот.
Как себе помогать в этом процессе
Двигаться маленькими шагами
Не обязательно сразу видеть всю картину. Можно начинать с малого:
– признать одну обиду;
– разрешить себе одну злость;
– честно назвать один эпизод, который до сих пор болит.
Писать
Письмо даёт дистанцию и опору:
«Сейчас я чувствую…
Это связано с тем, что тогда…
Я всё ещё сомневаюсь, но во мне есть часть, которая знает: мне было больно, и это правда».
Иметь «внутреннего взрослого» рядом с «внутренним ребёнком»
Можно представить:
рядом с тем маленьким собой, который плачет, злится, не понимает, стоит взрослый вы – тот, кто пишет эту книгу, читает, ищет помощь.
Его задача – не сказать: «перестань», а сказать:
– «я тебя слышу»;
– «ты не сойдёшь с ума от этих чувств»;
– «сейчас рядом со мной у тебя больше опоры, чем тогда».
При возможности искать внешнюю поддержку
Иногда объём боли такой, что одному тяжело. Тогда важно иметь:
– терапевта;
– группы поддержки;
– друга, который умеет слушать без обесценивания.
Не каждый человек готов быть таким свидетелем. Это нормально. Важно найти хотя бы одного – или начать с профессионала.
Первое разрешение себе – ключевой поворот на пути исцеления.
«Мне можно чувствовать и сомневаться» – значит:
– я перестаю быть судом над собой и становлюсь внимательным свидетелем своей внутренней жизни;
– я перестаю подменять живые реакции набором «как правильно» и «как удобнее другим»;
– я признаю: то, что во мне поднимается, заслуживает уважения не меньше, чем чужие чувства.
Признать свою боль – не значит застрять в ней. Это значит перестать убегать от того, что и так живёт внутри, и наконец повернуться к себе лицом.
Только так можно по‑настоящему менять что‑то в своей жизни и в родовой системе: не из отрицания прошлого, а из честного взгляда на него и из уважения к тому, кто через всё это прошёл – к вам.
Глава 2. Детство в тени: как токсичные сценарии формируют личность
Тема 2.1. Роли, в которые нас загоняют: удобный ребёнок и семейный бунтарь
Как в токсичных системах дети делят роли: «золотой ребёнок», «козёл отпущения», «невидимка».
Как эти роли продолжают жить во взрослом поведении.
В здоровой семье у ребёнка есть право быть разным: слабым и сильным, смелым и испуганным, послушным и протестующим, успешным и ошибающимся. Его не сводят к одной функции, не превращают в «роль», а видят живым человеком.
В токсичных и эмоционально незрелых семейных системах всё иначе. Там ребёнок очень ра рано становится не просто собой, а кем‑то для родителей, для всей семейной структуры: удобным помощником, спасателем, «проблемным», «примерным», «невидимым».
Ребёнок не выбирает эту роль сознательно.
Его в неё задвигают:
– ожиданиями;
– критикой;
– сравнениями;
– распределением внимания и ресурсов;
– прямыми и скрытыми посланиями: «ты у нас такой».
Так формируется система ролей, которая позволяет дисфункциональной семье как‑то держаться, не меняясь по‑настоящему.
Главное в этих ролях: они не заканчиваются, когда мы вырастаем. Они незаметно переезжают во взрослую жизнь, в наши отношения, работу, выбор партнёров и даже отношение к самим себе.
Почему вообще появляются фиксированные роли в токсичной семье
Токсичная система, как и любая система, стремится сохранить устойчивость. Если взрослые:
– не умеют регулировать свои эмоции;
– не берут ответственность за свои поступки;
– не признают собственных ошибок;
– живут в постоянном напряжении, конфликте, страхе, стыде, зависимости,
то всю эту не переработанную боль и хаос нужно куда‑то девать.
Их «удобный» способ – распределить функции между детьми:
– кто‑то будет тем, кем можно гордиться;
– кто‑то станет тем, на кого можно сбрасывать ответственность и вину;
– кто‑то заткнёт собой эмоциональные дыры;
– кто‑то просто исчезнет из поля, чтобы не мешать.
В результате у каждого ребёнка внутри формируется сценарий:
«Чтобы иметь право на место в семье, я должен быть…»
И дальше подставляется: «идеальным», «всегда послушным», «виноватым», «героем», «невидимым» и т.д.
Ключевые роли в токсических системах
Реальных вариантов много, но чаще всего встречаются три базовые фигуры:
«Золотой ребёнок» – удобный, правильный, предмет гордости.
«Козёл отпущения» – тот, на кого списывают все проблемы.
«Невидимка» – тот, кого как будто и нет.
Иногда одна роль дополняет другую, иногда дети меняются местами, но сама логика распределения остаётся.
Разберём каждую.
«Золотой ребёнок»: удобный, правильный, «повод для гордости»
Это тот, кому вешают ярлык:
– «умница»,
– «лучший»,
– «наша гордость»,
– «ты у нас не то что…» (далее идёт сравнение с братьями/сёстрами/отцом/матерью).
Снаружи может казаться, что «золотому ребёнку» повезло: его хвалят, им восторгаются, его ставят в пример. Но за этим блеском чаще скрывается тяжёлый груз.
Как формируется «золотой ребёнок»
В токсичной семье у взрослого есть потребность:
– поднять свою самооценку через ребёнка;
– показать миру «смотрите, я хороший родитель»;
– закрыть свою внутреннюю пустоту чужими достижениями;
– создать иллюзию «у нас всё в порядке».
Для этого одного ребёнка назначают «витриной семьи».
Основные механизмы:
– Раннее ожидание успеха: «ты у нас должен быть лучшим, ты способен».
– Похвала не за то, кто он есть, а за то, чего достигает: оценки, дипломы, конкурсы, послушание.
– Сравнение с другими детьми: «а вот твоя сестра…», «будь как брат», «ты у нас единственная надежда».
– Прямой или скрытый запрет на слабость: «ты же у нас взрослый», «не позорь нас», «соберись».
Золотой ребёнок учится:
– «У меня есть право на любовь только через достижения и удобство».
– «Если я разочарую, меня перестанут любить/уважать/видеть».
– «Ошибаться нельзя – это опасно».
Что происходит внутри «золотого ребёнка»
Внутри это не про гордость, а про постоянный страх и напряжение:
– страх не дотянуть до планки;
– страх потерять любовь, если окажусь «обычным»;
– стыд за любую ошибку или промах;
– ощущение, что «меня любят не за меня, а за то, что я даю».
Очень часто за идеальной картинкой «успешного ребёнка» живёт ощущение пустоты:
– «Меня никто не знает настоящим»;
– «Если я перестану стараться, никто рядом не останется»;
– «Я даже не знаю, кто я без своих достижений и роли “удобного”».
Взрослая жизнь «золотого ребёнка»
Во взрослости сценарий обычно продолжается:
Перфекционизм и трудоголизм
– постоянное стремление быть лучшим;
– неспособность отдыхать без чувства вины;
– вера, что «меня любят за результат»;
– хроническое выгорание, но при этом невозможность «сбавить обороты».
Страх ошибок и критики
– болезненное реагирование на замечания;
– избегание новых задач, в которых нет гарантии успеха;
– внутренний критик, который жёстче любых родителей.
Сложности с близостью
– «золотому ребёнку» трудно показывать свою уязвимость;
– он боится, что, увидев его слабым, его перестанут уважать и любить;
– поэтому часто выбирает роль «сильного, который всё тащит», а внутри чувствует одиночество.
Выбор партнёров и работы
– часто тянется к тем, кто им восхищается, но не видит в нём живого человека;
– попадает в отношения, где от него много требуют;
– на работе становится «незаменимым», «опорой», за которую держится система – и которой можно пользоваться.
Внутренний запрет на «быть просто»
– отдых, спонтанность, «делать что хочу» кажутся опасными или бессмысленными;
– собственные желания и чувства отодвигаются: «сначала надо добиться, удержать, не подвести».