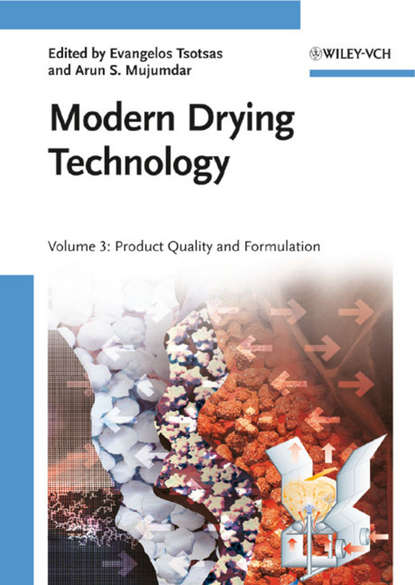Искусство одной жизни

- -
- 100%
- +

Глава 1
Глава 1. Кукушка
«Постоянное виртуальное «общение», фоточки в разных видах на разных фонах, ненужное и нелепое знание о местонахождении всех вокруг, о том, кто куда, что где пил, как ел, место вылета и прилета, даты, праздники, годовщины, еда и музыка. Это, конечно, создает некое ощущение наличия друзей, вернее, приятелей, еще вернее: близких знакомых, в смысле, знакомых, которых ты близко знаешь…. Тавтология какая-то… А выпить-то по- настоящему и не с кем вовсе.»
Так думал я, лежа на правом боку на койке, стоящей посередине палаты, уставившись в стену. Сзади нудно шумел вентилятор, периодически издававший почти петушиный крик, совпадающий с изменением направления движения. Движение есть, передвижения нет.
Передо мной одиноким грязным квадратом на немного более чистой серой стене висел диспенсер с торчащим из него клочком бумажного полотенца. Тень от всей этой композиции трепыхалась на юго- востоке от самого диспенсера под летящими туда- сюда потоками воздуха. Уголок бумаги немного приподнялся и сложился в треугольник так, что тень на стене казалась головой птицы с острым клювом, выглядывающей из черноты и злобно следящей за мной, качая головой в такт вентилятору.
Я медленно закрыл глаза, досчитал до десяти и резко открыл их – клюв не исчез. Я сильно надавил на глаза до появления радужных кругов, но, когда зрение вернулось, картинка передо мной совершенно не изменилась. Хотя нет. Бумага всё так же шевелилась, но теперь ее движения стали не ритмичными, а дергаными, как будто птица пыталась выбраться из ловушки.
Вентилятор стучал всё громче. Или это сердце?
Я протянул руку, чтобы оторвать пугающий меня лист, но в эту же секунду ветер от лопастей вдруг стих. Тишина упала так резко, что я услышал, как под стук моего сердца шуршит тень.
Тень шуршала.
Она оторвалась от своего гнезда, растеклась по стене, затем по полу, поднялась ко мне по ножке кровати и легла на мою ладонь – холодная и острая. Я начал трясти рукой, но поздно: тень уже была под кожей.
Я почувствовал, как что-то острое скребёт меня изнутри по сусекам, как будто пытаясь переплавить меня во что-то новое, возможно, треугольное…
Я встряхнул головой и наваждение отступило. «Отступило – затупило» – пронеслось где-то в сознании. «Я поэт, зовусь Незнайка. Я поеду на Ямайку» – похвалил я себя за очередную гениальную рифму и присел на койке, спустив ноги и глядя на свою приподнятую руку – кожа, вроде, была чуть темнее обычного, хотя, возможно, это игра света. И тени. А вот вены однозначно перестали быть синего цвета. Как будто в них текла не кровь, а та самая тень. Я провёл пальцем по одной из пульсирующих вен – и почувствовал острый колючий холод. Из-под ногтя навстречу вене выступила крошечная полоска тьмы и мгновенно втянулась обратно, будто язык змеи.
В палате пахло бумагой и пылью. Вентилятор молчал, но я всё равно слышал, как вращаются его лопасти – где-то внутри головы.
Я поднял глаза – на стене снова раскачивалась тень, но теперь без всякого источника света. Диспенсер куда-то исчез, а на его месте осталась голая стена, гладкая, как стекло, в котором отражался я. Только отражение, вроде бы, было не совсем мое. Оно сидело ровно, с приподнятой рукой, с чуть наклонённой головой, и смотрело прямо мне в глаза. Я моргнул – оно нет. Я поднял руку выше – оно раскрыла клюв. И тогда я понял: вот же она, моя бумажная птица.
Одновременно с появлением этой мысли птица начала будто произрастать из стены, медленно, без звука, как капля чернил, расползающаяся по воде. Клюв еще вытянулся, стал тонким и серебристым. Его чуть приоткрытые края дрожали, излучая внутренний свет. Птица посмотрела на меня, но не глазами, которые были закрыты, а всем телом, как будто само пространство вокруг нас вдруг решило, что оно живое.
Я слез с кровати и начал отступать, ища спиной стену, но стена была уже не там. Стены вообще не было! Комната словно изменила форму: углы растянулись, койка сместилась к потолку, а воздух стал тяжелым, как вода.
– Ты… ты же из бумаги, – прошептал я, – ты не можешь…
Птица еще раз качнула головой, и от её движения по венам пробежала волна холода, будто кто-то вдохнул в меня живой лед.
Она сделала шаг – именно шаг, хотя у неё и не было ног. Воздух перед ней смялся, как ткань, и стал рябить как настройка старого телевизора, словно невидимая рука гладила его против шерсти.
– Не могу? – раздалось не из её клюва, а будто изнутри меня. Голос был сухой, обветренный и шелестящий, как шуршание страниц. – Ты ведь сам меня сложил. И я могу все!
Я хотел возразить, что-то сказать, как-то ответить… но вдруг поймал себя на мысли, что я даже не помню, как оказался в этой палате. Где-то же должна была быть дверь, окно, кто-то живой, кроме меня, в конце концов! Но кроме птицы вокруг меня ничего не было. Пустота.
– Ты сам вырезал меня взглядом, – продолжала она. – Из окружающей тебя пустоты, из своего одиночества. Бумага просто оказалась ближе всех.
Я хотел закричать, но рот не открылся – губы будто слиплись изнутри, как две страницы старой книги, пропитанной ядом.
– Ты ведь всегда хотел быть понятым, – сказала птица, не размыкая клюва. – Понятым, хотя бы собой. А теперь ты станешь прозрачным.
Я хотел спросить – для кого? для чего? – но почувствовал, как в груди разворачивается что-то белое, тонкое, шелестящее.
Тело наполнилось страницами.
Они двигались, трепетали, как если бы кто-то листал меня изнутри, ища смысл, которого я сам не знал.
Я хотел сказать что-то вроде «не выдумывай» или хотя бы «замолчи», но язык будто приклеился к нёбу – слова застряли где-то между дыханием и мыслью.
Птица чуть наклонила голову, и с потолка соскользнула тонкая полоска света, прямо на мою руку. Свет был густой, как молоко, и когда он коснулся кожи – буквы на венах вспыхнули.
– Видишь, – сказала она, – ты уже почти готов.
– К чему? – спросил я.
– К переписыванию.
Слово, которое, наверное, было в начале, ударило прямо в грудь. Я наклонил голову – и увидел, что по телу медленно ползут строчки, строго выверенные, с одинаковыми промежутками между словами, словно кто-то невидимый писал меня с самого начала.
Я провёл пальцем по груди – буквы были рельефными, ощутимыми, как старые царапины из детства, когда больше переживал за порванные джинсы, чем за содранную кожу. Кожа заживет, а за джинсы надо будет ответить здоровьем перед родителями. И каждая новая царапина – будто воспоминание: вот эта – запах кофе в пустой кухне, эта – имя, которое я уже забыл, а вот тут – слово «тишина». И все они складывались в один текст, в одну непрерывную фразу, где не было точек и пробелов.
– Это ведь не я пишу, – сказал я.
– Конечно, не ты, – ответила птица. – Тебя уже написали.
Она приблизилась практически вплотную, и воздух между нами слипся, как капли тумана. Я оглянулся и увидел под собой пространство, где едва различимо плавали обрывки слов. И я вдруг понял, что это мои слова. Все, что я когда-то сказал, написал, подумал, всё, что не успел, не договорил, пообещал, но не сделал, все теперь кружилось вокруг меня, пытаясь снова собраться в смысл.
Птица наконец-то, впервые за все время, раскрыла клюв:
– Последнее, что ты можешь сделать, – дочитать себя до конца.
Я посмотрел на свои руки – они больше не были руками. Линии жизни и любви на ладошках превратились в строки, а кожа – в тонкий, полупрозрачный пергамент, через который просвечивало сердце, похожее на пятно чернил.
Я попытался смахнуть с себя это безумие, но пальцы оставляли за собой следы в воздухе – аккуратные строчки, словно кто-то писал мной, не спрашивая разрешения. И чем больше я двигался, тем плотнее становился текст.
Птица наблюдала, качая клювом в такт моим движениям.
– Ещё немного, – сказала она. – Осталась последняя глава.
– Какая глава? – спросил я, хотя язык уже не слушался.
– Та, где ты читаешь себя.
Стены комнаты снова проявились и сложились в пирамиду. Появился силуэт кровати, вентилятора и даже тот злополучный диспенсер. Всё выглядело точно так же, как и раньше, только теперь на койке лежал кто-то – бледный, неподвижный, с тенью, уходящей в потолок.
Я подошёл ближе и увидел, что у него открыты глаза. И эти глаза читали. Меня. Построчно, медленно, со вниманием, как читают перед сном. Я почувствовал, как с каждой строкой становлюсь тоньше и прозрачнее, словно смысл постепенно вычитали из меня, оставляя только пустоту между словами.
– Ну вот, – сказала птица. —Ты дочитал себя до конца.
Она расправила крылья – теперь уже огромные, как ночь, и поднялась вверх, растворяясь в потолке. А я остался – тихо шурша последними буквами, понимая, что, когда кто-то другой однажды откроет эту историю, я снова проснусь —и снова прочитаю себя.
Я стоял – если это вообще можно было назвать «стоял» – в середине комнаты, которая теперь казалась не комнатой, а страницей. Белой, чуть шершавой, с еле заметной фактурой бумаги. Включился вентилятор и воздух зашелестел, словно тысячи страниц одновременно перевернулись где-то надо мной. С потолка начали падать буквы. Они не падали – они плавали, медленно оседая на кожу, как пепел. Каждая прикасалась – и оставляла след: «я», «лежал», «палата», «тень»…
– Стоп, – сказал я, – хватит.
– Не «хватит», – мягко ответила тень, – «конец».
И я почувствовал, как исчезаю. Сначала ладони – превращаясь в строки, вдоль костей проступили абзацы, по рёбрам побежали рекурсивные мысли, а в груди забилась точка – единственная, огромная, всё сокращающая. И я увидел – сквозь бумагу, сквозь себя —чьи-то глаза. Они двигались построчно, медленно, внимательно, иногда возвращаясь назад, будто перечитывая особо впечатляющие моменты. Каждый мой вздох превращался в запятую, каждое воспоминание – в сносочку, а мысли о побеге – в неуместное тире…
Я зашел в читальный зал. У места выдачи книг столпилась неожиданная для этого времени дня очередь, и я взял первую попавшуюся книгу с полки «Рекомендуем». Сел на подоконник рядом с наполовину открытым окном и раскрыл книгу.
«Постоянное виртуальное «общение», фоточки в разных видах на разных фонах, ненужное и нелепое знание о местонахождении всех вокруг, о том, кто куда, что где пил, как ел, место вылета и прилета, даты, праздники, годовщины, еда и музыка. Это, конечно, создает некое ощущение наличия друзей, вернее, приятелей, еще вернее: близких знакомых, в смысле, знакомых, которых ты близко знаешь…»