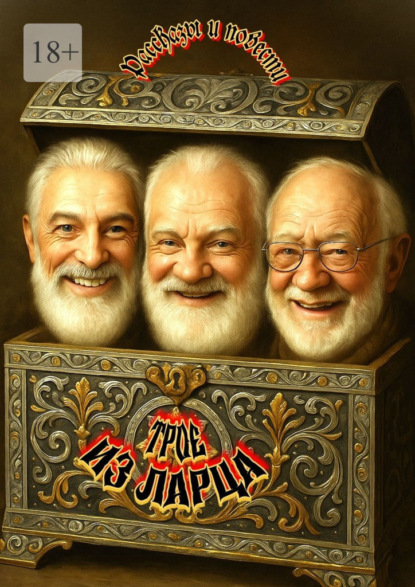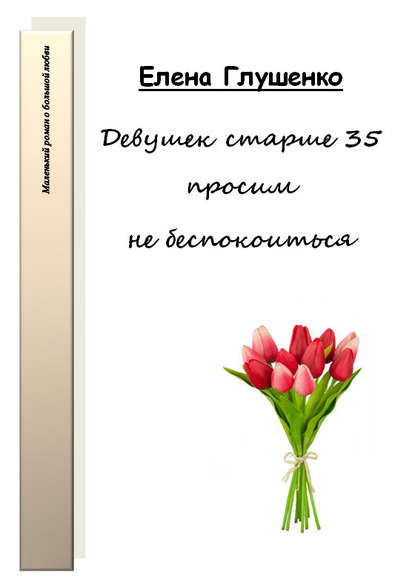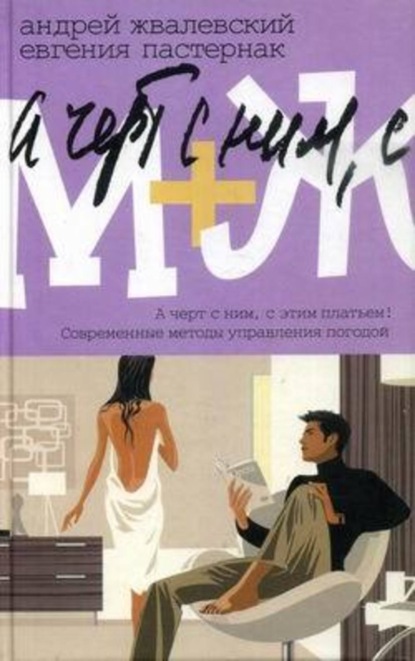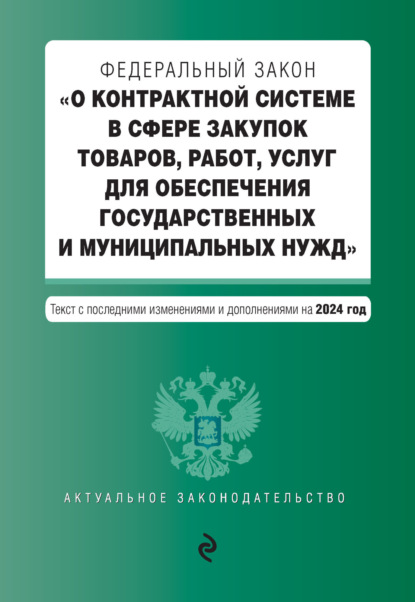Человек и свобода. Дневник реакционера
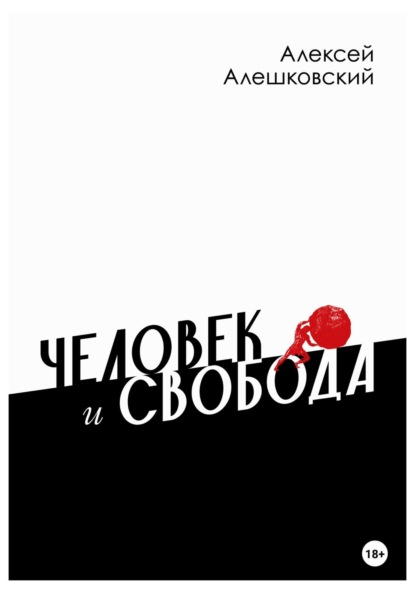
- -
- 100%
- +
Когда сам Путин называет себя либералом – тоже не противоречие. Либерал в хорошем смысле – это человек, разделяющий либеральные ценности, а не идеологию либерализма, которая как дышло. Хотя и с ценностями не все так однозначно: вот, например, в Грузию решили принести их в формате гей-парада. Европейские партнеры активно продавливали это чреватое непредсказуемыми последствиями мероприятие в весьма патриархальной стране с неустойчивой политической ситуацией. Если представлять их соображения исключительно идеалистическими, в этом была доля логики: либеральный режим Саакашвили рухнул после обнародования дикой информации о гомосексуальном насилии в грузинских тюрьмах как методе борьбы с политическими оппонентами.
Спасительным роялем в кустах оказался депутат Гаврилов, после скандала с которым идею гей-парада под сурдинку задвинули в дальний угол ценой мгновенно испорченных отношений с Россией. Дошло до того, что певица Нино Катамадзе, безостановочно выступавшая у нас после войны 2008 года, внезапно решила, что больше для оккупантов петь не будет. Тема оккупации сама по себе весьма интересна в либеральном дискурсе. Скажем, почему правомерно говорить об оккупации Грузии Советским Союзом, но не об оккупации Грузией Абхазии и Южной Осетии, которые она получила от оккупационной советской власти?
Или вот вопрос о коллективной ответственности. Путем нехитрых манипуляций выяснилось, что за зверства большевиков она должна быть возложена на русский народ (очевидно, за вычетом представителей прогрессивной интеллигенции, которые планируют лишь руководить организованным покаянием). То есть, русский народ будет коллективно отвечать и лично за товарища Джугашвили, и за украинских товарищей, под его чутким руководством проводивших Голодомор, и за товарищей из других союзных республик, активно уничтожавших собственных граждан. Сами эти республики коллективная ответственность вообще не беспокоит: с 1991 года они стали свободными и от нее. О коллективной ответственности за участие в Холокосте, которым прославились новые герои украинской нации, тем более никто не говорит. Интересно, не хотят ли «либералы» разделить ответственность за преступления «либерализма»?
Дальше можно рассмотреть тему выборов, – недаром Путин в том же интервью с чисто английским сарказмом поставил российскую демократию в пример британской избирательной системе. Если на то дело пошло, честных выборов в эпоху нечестных СМИ не бывает в природе. Как вели предвыборную кампанию американские СМИ, мы видели. В идеале хотя бы либеральные СМИ должны быть независимыми, но на практике не бывает СМИ, независимых от своих хозяев. И чем отличаются российские административные барьеры, к примеру, от американских, которые стоят на пути прямых выборов президента?
Российская либеральная рефлексия по поводу честных выборов тоже отличается анекдотичностью: например, основатель «Рольфа» Сергей Петров намедни заявил: «Победа либерализма для меня – это не победа Навального, а победа в честных выборах того, кто выиграет. Скорее всего, это даже будет не Навальный, а какой-нибудь Зюганов или вообще нацист, но это будут честные выборы. И люди, без всяких Сурковых и Володиных, увидев свою ошибку, через четыре года смогут сами сделать выводы». Правда, тремя годами раньше он же говорил: «Я бы в 96 г. не отдал победу Зюганову. Вспомните, после Второй мировой в Германии был запрет для определенных людей на определенные профессии. Это критиковали все демократические страны. Но немцы говорили: мы к демократии еще не привыкли и нам не нужны учителя из СС. Так и нам нельзя было пускать коммунистов к власти в 96-м». Видимо, сегодня мы к демократии уже привыкли, и теперь любой нацист будет априори руководствоваться принципами либерализма.
Этот парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности.
2 июля 2019
СВОБОДА ПРИХОДИТ НАГАЯ
Реконструировать подоплеку политических событий – обычно примерно то же, что описывать айсберг по чайке, сидящей на его видимой части. Но случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. Не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить и раньше, но тут уж обычно говорят: поздно пить боржоми, когда нос проваливается.
Грузию трясет от одной перспективы гей-парада: не все либеральные ценности еще прижились в молодой демократии. В первый раз накануне этого символического мероприятия выбили стул из-под депутата Гаврилова. Дату перенесли. Накануне новой телеведущий Габуния, которого грузинские СМИ называют скрытым геем, бодро прочитал с монитора невыученные оскорбления в адрес российского президента. Под очередную шумиху парад снова отменили. Совпадение? Не думаю.
Это вирус манипуляции эмоциями там, где необходимо замаскировать отсутствие разумных оснований. В обиходе он описывается Законом Годвина, который констатирует неизбежность упоминания Гитлера в качестве аргумента по мере разрастания дискуссии. Майк Годвин пояснил свой закон: «его цель всегда была риторической и педагогической: я хотел, чтобы те, кто беззастенчиво сравнивают своих собеседников с Гитлером и нацистами, хотя бы немного задумались о Холокосте».
Но задумываться нынче не принято. Как говорил Пелевин, «моральное негодование – это техника, с помощью которой можно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства». Путина теперь сравнивают и с Гитлером, и со Сталиным (когнитивный диссонанс? не слышали), отсутствие хамона и пармезана в меню – с баландой в бессмертном бараке, а нынешний «кровавый режим» – с советской властью, при которой, по сравнению с ним, оказывается, все было не так уж и плохо.
Идиотизм? Зато с чувством собственного протестного достоинства. Интересно лишь, откуда оно берется у людей, которым при советской власти быть коллаборационистами ничто не мешало, – как и сегодня ничто не мешает гордиться своим нонконформизмом. Правда, не очень понятно, в чем он выражается: в свободе критиковать власть, которую можно критиковать, потому что за это ничего не будет? По этому признаку мы уж точно живем в демократическом обществе.
Я, разумеется, о протестном истеблишменте, которого репрессии не касаются уже потому, что он ничего не делает. «Мы все просрали», – как искренне признаются его столпы. А что бы вы делали, если вернуть 1991 год обратно? В депутаты пошли? В 1993-м поддержали Хасбулатова и Руцкого? В 1996-м голосовали за Зюганова? Переоценка гипотетической роли собственной личности в гипотетической истории довольно комична на фоне ее недооценки в реальной сегодняшней.
Этот истеблишмент я бы разделил на две группы: обломовых и штольцев. Пока обломовы валялись на диване, штольцы активно вписывались в рынок и становились бенефициарами демократических перемен, которых требовали наши сердца. Заводы, газеты, пароходы, офшоры и банкеты с устрицами, на которых обломовы пили с ними за долгожданную свободу, утоляли духовную жажду расправивших плечи советских атлантов, пока голодные шахтеры стучали касками по Горбатому мосту.
Тогда исполненная достоинства прогрессивная интеллигенция морального негодования шахтеров не разделяла.
Люди вообще склонны принимать за правильный ход вещей ситуацию, в которой лично у них все в порядке. У сытых коммунистов все было в порядке при советской власти. А у демократов стало все в порядке, когда они насытились, поборов коммунистов. Одних не волновали колбасные электрички, других – отсутствие у кого-то денег на колбасу.
Свобода приходит нагая, но быстро начинает прибарахляться. И если воплощенной укоризной перед либералом-идеалистом встает голодный шахтер, это значит только одно: в рынок шахтер не вписался, и стал врагом тех самых идеалов, которые привели идеалиста в стан хозяев жизни. Но внезапно под хозяевами жизни начинают шататься кресла: на исторической сцене появляются лопахины в погонах, которые напоминают раневским в вишневых пиджаках, что собственность – это кража.
И тут идеалисты прозревают: и со свободой вдруг стало что-то не то, и с правом собственности. Оказывается, и у народа не все в порядке. И напоролись вовсе не на то, за что боролись: считали себя партнерами, а оказались халявщиками в мышеловке. Казалось, справедливость восторжествовала, а выяснилось, что жизнь несправедлива. Видимо, про это и говорят: «мы все просрали». Ну как тут обойтись без морального негодования? В этом должен быть кто-то виноват, и этого человека мы знаем.
Ведь если не Путин, то кто?
10 июля 2019
СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS
У кино в России две беды – цензура и свобода. Причем свобода, как выяснилось, беда похуже. Тарковский сравнивал себя с глубоководной рыбой, которая может существовать только под давлением. Задавленные советским идеологическим идиотизмом режиссеры ухитрялись снимать ленты, покорявшие весь мир. Рефлексировать эзоповым языком так, что это было понятно миллионам простых зрителей, которые узнавали в киногероях себя. Потом советская власть рухнула, но ожидание великих свершений обернулось большим творческим пшиком. Оказалось, что советскому человеку просто нечего сказать на рандеву со свободой.
Потрясающий феномен, и разгадать его довольно сложно. Я по пальцам одной руки могу пересчитать ленты первого свободного десятилетия, о которых можно было бы сказать: да, это про нас. Про нашу эпоху. «Маленькая Вера», «Облако-рай», «Брат». Да и то первые два были сняты еще на закате советской власти. Наверное, каждый может припомнить что-то свое, но исключения подтверждают правило. Колоссальный, трагический слом жизненных установок, реформы моральных ценностей, распад страны и уклада жизни – все это осталось практически неотрефлексированным.
На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. В литературе, впрочем, дела обстояли не лучше. Примечательно, что красный век русского искусства между революцией и войной был потрясающим культурным взрывом – и в литературе, и в кино. И официальная советская литература, и потаенная, и эмигрантская – все размышляли о месте человека в новом мире. И Платонов, и Шолохов, и Бабель, и Булгаков, и Замятин, и Набоков пытались осмыслить реальность страшного века. Когда советская власть кончилась и идеологический дым рассеялся, реальности на площадке не было.
Реальность начала прорываться в криминальных телесериалах – сначала в «Улицах разбитых фонарей», потом в прекрасном и малоизвестном «Законе» Велединского, потом в «Бригаде», обнаружившей перед нами беспредел с человеческим лицом. Выяснилось, что реальность интересует нашего зрителя куда больше, чем латиноамериканские страсти, – и страсти собственного производства вскоре вытеснили из эфира импортные мыльные оперы, положив начало реанимации отечественного киноискусства. Симптоматично, что именно телесериалы не дали загнуться нашей киноиндустрии, хотя смотреть на них мастера кино предпочитали сверху вниз.
Отчасти у этого были основания. Бешеный спрос породил чудовищную халтуру. Сериалы быстро превратились в конвейерное производство с потоковой штамповкой. Однако бессмысленно объяснять издержки жанра бездарностью наших творцов или тупостью наших зрителей, как убеждены многие творцы. Сериальное производство превратилось в серьезный рынок, а каждый рынок изучает своих потребителей. Выяснилось, что у разных каналов – разные аудитории. Если упрощенно – женская хочет смотреть остросюжетные сказки про трудную женскую долю с хэппи-эндом, мужская – как добро с кулаками побеждает зло, а молодежная – ситкомы про себя.
Поэтому у каждого канала возникает свой сериальный формат с заданными предпочтениями его аудитории требованиями. И соответствие желаниям аудитории становится, по сути, рыночной цензурой – ведь рекламодатели платят каналам за аудиторию, а деньги от рекламы позволяют содержать канал и снимать сериалы.
Претензии к аудитории довольно смешны: если вы придете в магазин за мясом, а вам начнут втюхивать кружевные трусы, вы примете продавца за идиота. Все то же самое и в США – эфирные каналы «Большой тройки» никогда не покажут продукцию интернет-платформ, которая относительно свободна от цензуры. Собственно, расцвет американских сериалов и паломничество деятелей большого кино на телевидение связаны именно с этим. Эволюция рынка превращает прокатное кино в парад аттракционов, на котором нет места искусству. Независимое кинопроизводство еще трепыхается, но дышит на ладан, тогда как интернет-платформы развиваются бешеными темпами. Только в России их уже около десятка.
И тут возникает интересный вопрос: что они будут показывать, и не повторит ли грядущий бум интернет-сериалов историю эфирных, ведь погоня за количеством неизбежно начнет сказываться на качестве? Тут надо заметить, что в целом перспективы нашей сериальной индустрии выглядят весьма неплохо. За кратчайшие сроки она вырвалась в обойму мировых лидеров: на мой субъективный взгляд, если американцы и англичане заслуженно возглавляют список, то мы уже на третьем месте по количеству проектов, которые можно и нужно смотреть. Чудовищного качества продукцию выпускают все, но речь идет о лучших образцах, которых у нас становится все больше и больше: интерес к ним международного рынка тоже показателен.
И вот здесь я хотел бы вернуться к тому, с чего начал. У нас есть замечательные исторические, футуристические, детективные и мелодраматические проекты. Но у нас практически отсутствуют социальные драмы, которые и в прокатном кино достаточно редко встречаются – на ум приходят разве что быковский «Дурак» и «Нелюбовь» Звягинцева. А ведь в основе практически всех культовых американских сериалов, от «Клана Сопрано» до «Прослушки» и «Во все тяжкие», – семейная история и социальная драма. Мы вообще довольно мало склонны задумываться о себе: почему мы такие? что с нами происходит? как нам стать лучше?
На вопрос «кто виноват?» либералы и патриоты тычут пальцами друг в друга, а вопрос «что делать?» предпочитают не ставить. Поэтому неудивительно несколько брезгливое отношение интеллигенции к социальной или производственной драме. От критиков американского сериала «Чернобыль», которые видели в нем только происки врагов, я слышал: ой, ну это же какая-то «Премия» или «Мы, нижеподписавшиеся». А мне эти прекрасные истории всегда казались необыкновенно важными, хоть публицистики в них было больше, чем поэзии кино. Потому что там была правда жизни нормальных работяг – не маргиналов и не эстетов. Были модели поведения и выбора. Была цена вопроса: когда сказать правду – как выйти на площадь.
В советские времена бытовал такой забавный миф, что мы – духовные, а американцы – примитивные выжиги и потребители. Времена свободы сильно скорректировали это впечатление. Мы вообще довольно похожи, и даже американское общество сейчас оказалось расколотым на обладателей светлых лиц и темных душ. Духовность не стоит путать со здравым смыслом: и Лев Толстой может стать зеркалом революции, и пороки капитализма – породить великий американский роман, из которого вышли великие американские сериалы. Для того, чтобы догнать и перегнать, нам надо начать вглядываться в себя. Не осуждать, а понимать и принимать. Мой первый редактор сказала мне замечательные слова: «Ты не можешь быть прокурором собственным героям». Свет идеалов создает миражи. А искусство возвращает к реальности.
17 июля 2019
НУЖНА ЛИ НАМ СВОБОДА?
Скоро мир необратимо изменится: нас ждет вторжение искусственного интеллекта. Во всех сферах жизни, от общественной до частной, грядут судьбоносные перемены, которые могут полностью изменить облик цивилизации. Пытаясь представить черты прекрасного нового мира, научное и околонаучное сообщество традиционно разделилось на адептов перемен и алармистов, которые пугают грядущей гибелью человечества: в их представлении поступь искусственного интеллекта окажется куда страшнее вторжения недружественных инопланетян.
Как говорится, две новости: хорошая и плохая. Для оптимистов и пессимистов. Хотя мне представляется не выбор из полярных вариантов, а новая красивая медаль, у которой имеется непрезентабельная обратная сторона. Начнем, пожалуй, с плохих вестей. Занятно, что у человечества, как и отдельных его представителей, мания величия мирно соседствует с комплексом неполноценности. С одной стороны, человека давно принято считать хозяином планеты. С другой – этот хозяин боится оказаться подопытным кроликом созданного им самим Голема – искусственного интеллекта, по сравнению с которым естественный окажется в дураках.
Замена людей роботами уже повсеместно входит в нашу жизнь: на производствах, в сфере обслуживания, медицине, финансах, индустрии развлечения и т. д. Куда денутся безработные? То есть люди, которые не относятся к креативному классу и не могут создавать новые бизнесы, заниматься творчеством или наукой? По всей вероятности, у них останется единственный выход: жизнь на социальное пособие и растворение в виртуальном мире (скорее всего, там тоже появятся рабочие места и даже эксплуатация человека человеком, поскольку бизнес по прокачке и продаже игровых персонажей, ресурсов и денег давно на мази).
А представьте себе Россию, в которой несколько миллионов человек отправили домой к компьютерам! С одной стороны, не все так однозначно: сидеть за монитором и играть в игру – не у станка стоять. А возможности, которых виртуал-пролетариат будет лишен в реальном мире, он с легкостью восполнит победами в игровом. Не исключено, что там и революцию можно будет устроить, и всемирный потоп. Возможно, в Скотный двор человечество превратит не диктатура, а научно-технический прогресс. Но в чем проблема? Свобода? – бери не хочу. Какая свобода потребуется человеку с решенными социальными проблемами в реальном мире?
Креативный класс тоже будет доволен своей избранностью, разве что конкуренция увеличится и ставки вырастут. Но и падать будет не больно: под забором не помрешь. Интересно, как поменяются привычные ценности, определяющие сегодня взгляды либералов и патриотов. Вот, например, выборы. Можно предположить, что искусственный интеллект наконец сделает их честными (если его, конечно, не взломают). Голосовать можно будет нажатием кнопки на компьютере. Никаких интриг, митингов и демонстраций. А коррупция? Если деньги будет распределять компьютер, откуда ее взять, – если, конечно, не подкрутить считалку.
Но ведь искусственный интеллект сможет следить за расходами и доходами! И вообще за поведением человека. В Китае уже несколько лет тестируется система социального кредита, призванная ранжировать граждан в соответствии с их благонадежностью. Внедрить ее по всей стране планируется к будущему году. Большой цифровой брат будет получать сведения о любых транзакциях и действиях человека в сети. Система отслеживает штрафы и административные правонарушения, своевременную оплату счетов и покупки, даже время, проведенное за видеоиграми и в соцсетях. Цели системы вполне логичны: с одной стороны, она должна обеспечить порядок в обществе, с другой – дать возможность оценивать кредитоспособность потребителей. Электронный концлагерь или идеальное общество? Нужна ли человеку свобода лишь затем, чтобы нарушать порядок?
Теоретически люди сумели понять алгоритмы многих вещей, которые раньше казались чудом: скажем, удачу можно объяснить стечением обстоятельств (оказаться в нужном месте в нужное время), счастье – удачной комбинацией гормонов, здоровье – генами, и т. д. Интересно представить себе общество, в котором искусственный интеллект в состоянии сделать всех (хотя поначалу, возможно, только избранных) здоровыми, богатыми и счастливыми.
По сути человек станет игрушкой в руках искусственного интеллекта. Вопрос в том, готовы ли мы платить за счастье свободой воли. И нужна ли нам вообще её свобода. Если представить себе, что наши жизнь и судьба заранее запрограммированы, хотели бы мы заранее знать все, что с нами будет? В этом смысле искусственный интеллект можно представить себе идеальной гадалкой, совмещающей свойства коуча, астролога и психотерапевта. Он даже сможет стать универсальной отмазкой, которой можно объяснять свои проблемы – точно так же, как их можно объяснять советской властью, проклятыми демократами или либералами, Ельциным или Путиным.
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. А если Бога нет, то разве искусственного интеллекта надо бояться? Чем он может быть страшнее человека, слухи о гуманности которого сильно преувеличены? Тем, что он не будет принимать в расчет интересы человечества? А разве их принимали в расчет Гитлер, Сталин или вожди передовых демократий?
Футурологи давно спорят о возможности переселения человека в компьютер. Трансгуманизм, сеттлеретика – все эти новые названия средства Макропулоса покоряют умы и сердца. Теоретически интересно представить себя бессмертным. Но, если сознание можно оцифровать, то дальше с ним можно делать все что угодно – создавать клонов, красть личность, модифицировать двойников… Вы представляете себе перспективы такого мира? Как изменятся в киборгизированной реальности государства и их задачи, что станет с национальной идентичностью и животными инстинктами, как технологии покорят биологию? Наконец, станет ли новый мир ареной битвы искусственных интеллектов Добра и Зла, или он упразднит эти понятия?
В гипотетическом всевластии искусственного интеллекта безусловно хорошо только одно: для торжества этой технореволюции необязательно убивать себе подобных. Если считать, что человек находится в поисках счастья (особенно всеобщего), история человечества неоспоримо доказывает, что эту задачу уж точно лучше доверить искусственному интеллекту. А если он находится в поисках смысла? Может ли программа понять смысл операционной системы – как мы пытаемся понять смысл происходящего с нашей страной? Умом Россию не понять. А искусственным интеллектом?..
29 июля 2019
ДИАЛОГ И КОНФРОНТАЦИЯ
Постановка целей и задач – необходимый этап для какой-либо осознанной деятельности. К сожалению, в случае с нашей оппозицией цели и задачи либо отсутствуют, либо не совпадают с декларируемыми. То есть ее мечта сменить власть и учредить прекрасную Россию будущего, конечно же, понятна, но практические шаги выглядят довольно анекдотично в том смысле, что просто отвращают большинство сограждан от креативного класса. И проблема тут не в «зомбирующей» пропаганде, влияние которой на умы сильно преувеличено (если вспомнить хотя бы процесс и результаты внедрения в массы пенсионной реформы); у меня даже складывается впечатление, что основной ее аудиторией являются «либералы», от которых я в основном и узнаю в фейсбуке об очередных высказываниях Киселева-Соловьева.
Даже большевики в конфетно-букетном периоде отношений с народом обещали дать власть советам, а землю крестьянам. Что предлагается на смену либеральным реформам нынешнего правительства, мало понятно. Разговоры о независимых судах, силовиках с белыми крылышками и молочных реках с кисельными берегами выглядят несколько неконкретно: даже если представить, что наше руководство разом снялось и улетело на Марс, передав последним декретом всю власть в руки оппозиции, трудно предположить, как и какими методами люди со светлыми лицами планируют строить прекрасную Россию будущего с тем же народом, оставшимся им в наследство от «кровавого режима». Ну разве что загнав несогласных в ГУЛАГ, как это делалось сто лет назад.
Претензии избиркома к кандидатам могут выглядеть спорно, но аналогичные случаи в Питере обернулись судами и вмешательством ЦИКа, – выяснилось, что законными методами с этим можно бороться. Не то чтобы я преувеличивал степень справедливости и законности в реальной жизни, но ни в одной из передовых демократий долгая и трудная борьба за права не была раздачей бесплатного сыра, и во многом ее результаты оказались следствием конкуренции с Советским Союзом, по ряду социальных благ действительно опередившим капиталистические страны. Но законные методы для креативного класса слишком скучны. Казалось бы, за правое дело можно вывести на проспект Сахарова хотя бы сотню тысяч человек (если верить опросу, по которому треть москвичей якобы готовы поддерживать акции протеста). И конкретные требования могли бы стать конструктивным вкладом оппозиции в развитие нашей демократии. Но разве это возможно, если даже создание Координационного совета оппозиции после болотных митингов обернулось лишь бесконечными склоками вождей протеста, которые с первого дня словно делили портфели вместо того, чтобы искать общий язык? Разумеется, проще кричать «мы здесь власть»: все при деле, все довольны, и результата никакого.