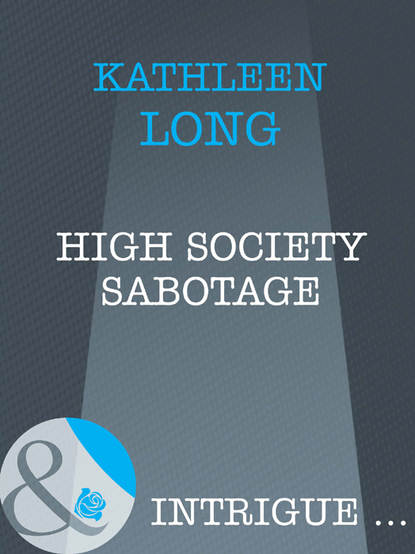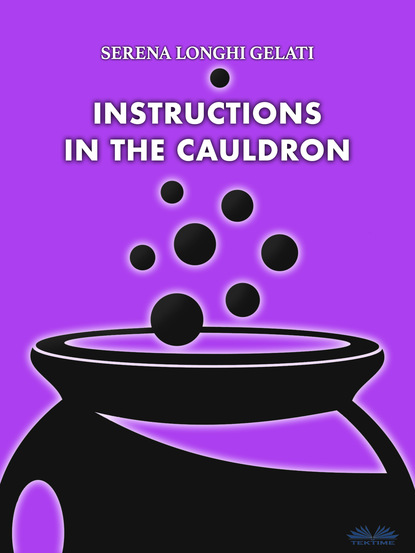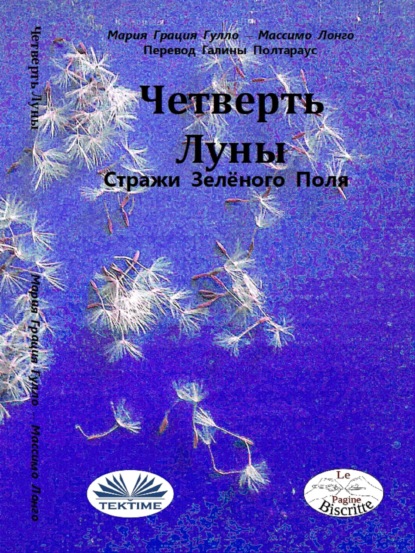Человек и свобода. Дневник реакционера
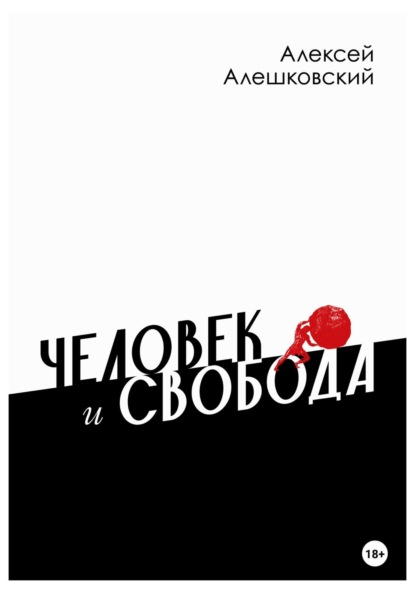
- -
- 100%
- +
Оппозиционно настроенным френдам я задаю в фейсбуке соответствующие вопросы. И получаю совершенно изумляющие меня ответы: «Если задача – митинговать безопасно и неслышно, то какой смысл? Лучше и правда дома сидеть». Другой товарищ объясняет, что несанкционированные митинги нужны для «проявления нелегитимной природы режима и незаконных методов власти, лишающих их морального превосходства и символического капитала». То есть выводить на улицы людей, которые рискуют попасть под дубинки гвардейцев или уголовные дела, нужно не для того, чтобы добиться позитивных изменений там, где они необходимы, а для того, чтобы с большой долей вероятности поставить на перспективе этих изменений большой жирный крест.
Есть только две модели взаимоотношений общества и власти: диалог и конфронтация. Диалог не подразумевает благостной симфонии – у общества и власти по определению довольно разные задачи. Из этого, собственно, и проистекает потребность в цивилизованной оппозиции, на которой в развитых демократиях выстраиваются модификации укрепляющей государство двухпартийной системы. У нас, как считается, верхи давно мечтают найти эту вторую партию (даже если считать наличествующей первую). Мечтают, но никак не могут. Мало того, что эта партия должна быть относительно лояльной, так за нее еще и избиратели должны голосовать.
Предположительно мечтается, что у нас будут системные «патриоты» и системные «либералы», между которыми будут распределяться голоса подавляющего большинства населения. Как это происходит в США (хотя последние тамошние выборы продемонстрировали, что такая система может приводить не только к балансу интересов, но и к расколу общества, и это отдельная интересная тема). Но вот с организацией «либералов», которые были бы любезны народу, у нас, оказывается, совершеннейшая засада. Мало того, что они народу не любезны, так они еще и друг с другом договориться не в состоянии. Можно сколько угодно рассуждать о гапонах Шредингера, которые, возможно, пляшут под чью-то дудку сами и ведут за ней, как гамельнский крысолов, «онижедетей». Но и без конспирологии понятно: когда в товарищах согласья нет, остается слушать не голос разума, а музыку революции.
5 августа 2019
ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА НА МИТИНГЕ
Один из самых замечательных афоризмов, который теперь вспоминается едва ли не каждый день, принадлежит Пелевину: «Моральное негодование – это техника, с помощью которой можно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства». Здравый смысл сегодня совершенно не в цене, и все дискуссии ведутся с использованием эмоциональных аргументов. Когда сбили малайзийский боинг, один комментатор написал: «как эти подонки могут спрашивать, кому это выгодно?!»
Это очень любопытный симптом, потому что нравственное чувство теперь стало подчинено идеологическим критериям: в некотором роде – метаморфоза классовой морали. На последнем митинге сфотографировали мальчика со светлым лицом, который держал в руках плакатик «Запретим путинистам рожать». Можно было бы счесть его провокатором, но проблема в том, что в фейсбуке большие мальчики и девочки с подобными идеями просто толпятся. Когда в Одессе горели люди, еще можно было списывать это на трагическое стечение обстоятельств и, рассматривая чудовищные записи, твердить, что не все, возможно, так однозначно.
Но когда в социальных сетях радостно писали про жареных колорадов, это уже было совершенно однозначным. И это не было трагическим стечением обстоятельств. Но я совершенно не помню, чтобы наш прогрессивный актив сильно беспокоился по этому поводу: «они же дети». Как не помню, чтобы он возмущался нацистскими факельными шествиями в Киеве или переименованием Московского проспекта в проспект Бандеры. Можно было бы счесть это внутренним делом Украины, но те же люди только что, смеясь, уверяли нас, что бандеровцев придумали Киселев и Соловьев.
Здравый смысл – как божья роса, глаза совершенно не режет. Вместо этого лучше призывать к совести. Тут полезно задуматься, что конкретно мы имеем в виду. Совесть – понятие коммуникативное, то есть неразрешаемое в рамках единственной этики («думай как я»). Совесть по определению связана с общечеловеческими ценностями, которые принимают все. И тут возникает интересная закавыка. Общечеловеческие ценности принимают все образованные люди, но не ко всем они готовы их применять. Скажем, бомбардировки Алеппо – это преступление Путина и Асада, а бомбардировки Мосула или Ракки – подвиг западной коалиции.
Но когда речь заходит о бомбардировке Дрездена, уже снова не все так однозначно. Потому что надо еще посмотреть, на чью мельницу льешь воду. Вот эту советскую привычку (или даже потребность) колебаться вместе с линией партии советские люди впитали с молоком матери. А молодым она, по всей видимости, генетически передается: «люди со светлыми лицами» ведь сами постулируют наследственность благоприобретенных ублюдочных признаков, когда рассуждают о потомках палачей. В связи с последними событиями интересно вспомнить эволюцию отношения прогрессивной интеллигенции к протесту.
«Что бы там ни вещали обанкротившиеся политики, милицейские чинуши, телевизионные лакеи, демонстрация оппозиционных сил Москвы 1 мая шла мирно и достойно, пока не уперлась в щиты ОМОНа. Град дубинок, обрушившихся на головы безоружных, не мог не вызвать ответной реакции демонстрантов. Как стерпеть надругательство над собой? Свободолюбие народа – пустой звук для властей, привыкших всех, кто не разделяет их взглядов, считать быдлом, кухарками, красно-коричневым отребьем. Ничего случайного в избиении демонстрантов нет, это лишь шаг силой сломить сопротивление сограждан, не принимающих дикий капитализм. Подчеркнем, значительной части россиян. Предвидим, дальше в оборот будут пущены еще более жестокие меры, демократы ни перед чем не остановятся», – писала газета «Правда» 4 мая 1993 г.
Вспоминать то, что не укладывается в рамки идеологем и мифологем, оказывается, очень неудобно. «Мы, неформалы, нонконформисты и либералы, едва не отдавшие жизнь, точно по Вольтеру, за право наших противников высказать свое мнение, с волнением и нетерпением поджидали „Альфу“, танки, элитные спецчасти, ОМОН – весь этот арсенал усмирения, когда-то направленный против нас. Мы уже ничего не имеем против штыков власти, ограждавших нас от ярости тех самых 20%», – это уже Валерия Новодворская, после октября 1993 года. Сегодняшние яростные «14%» уверены, что кровавый режим совершает преступление против них. Почему? Да потому что «а нас-то за что?..»
Не стоит ссылаться на то, что тогда был путч со всеми вытекающими, – я сравниваю не ситуации, а законы и риторику. Насколько быстро ситуация превращается из мирного протеста в вооруженный, мы помним и по 1993 году, и по 2014-му. Аппетит приходит во время еды, как в сказке о золотой рыбке. Могли ли мы лет тридцать пять назад представить, что будем свободно ездить по всему миру, в школах будут проходить Солженицына, а президент страны – открывать в центре Москвы мемориал жертвам коммунистических репрессий? Прекрасная Россия будущего уже здесь, но она оказалась прекрасной не для всех. Как Советский Союз. Как и демократическая Россия Ельцина.
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех разные: это только кажется, что всем нужны честные выборы. Когда в 1993-м на них победил Жириновский, цвет нации возопил: «Россия, ты одурела!» И в 1996-м тема честных выборов стушевалась, чтобы снова расцвести на очередном витке исторической спирали. Еще одна давешняя фотография с проспекта Сахарова: рядом развеваются красный стяг Объединенной коммунистической партии с серпом и молотом и огромный черный флаг. На черном серп и молот жирно перечеркнуты красным, и написано: «Декоммунизация». Символ нашего протеста и наших умонастроений: лебедь, рак и щука на митинге. Осталось крикнуть: «Россия, вперед!»
13 августа 2019
ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЖИТЬ
«Русские репортеры» пригласили меня в Школу реальной журналистики рассказать о сторителлинге. Это теперь такое модное слово: как банкинг или коучинг. Несколько лет, как весь мир помешался на сторителлинге. Капитаны бизнеса, адмиралы рекламы, маршалы политики и свадебные генералы – все стали нуждаться в этом инструменте, о котором по городам и весям за большие деньги рассказывают всевозможные гуру. Школа реальной журналистики – бесплатно. По идее, каждый журналист занимается тем, что рассказывает истории, не говоря уж о каждом таксисте. Зачем этому еще и учиться, если вы не сценарист?
Экспорт сторителлинга затеял, кажется, знаменитый голливудский гуру Роберт Макки: со своим курсом для сценаристов он начал путешествовать лет 35 назад, а потом занялся внедрением своих идей для бизнеса. И это заработало: в 2016 году в Америке провели исследование, согласно которому покупатели готовы платить больше за товар, у которого есть какая-то история. А строительная компания, которую консультировал Макки, благодаря технологии впаривания клиентам профессиональных баек втрое увеличила портфель заказов. Над этим можно иронизировать, но это, как говорится, действительно многое объясняет.
Дело в том, что искусство рассказывать истории (только это и подразумевает термин «сторителлинг») имеет свои законы. Сформулированы они были еще до нашей эры Аристотелем. А лучше всего развили и модернизировали их применительно к современным задачам товарищи из Голливуда, где экономика действительно должна быть экономной. Когда сборы начали падать, они стали задумываться о том, как поставить сценарное дело на научную ногу.
И поставили, выяснив, как и почему должна развиваться история, и каким образом поступать герои, чтобы в них поверили: ведь кино смотрят ради эмоций, а эмоции порождает правдивость ситуаций.
И речь идет не обязательно о жизненной – об эмоциональной правде: скажем, наша женская аудитория любит смотреть не социальные драмы, а сказочные мелодрамы, но в перипетиях их героинь должны чудесным образом разрешаться проблемы, опостылевшие простым дояркам. А мальчики любят смотреть про пиратов не потому, что собираются с кинжалом в зубах взбираться на борт купеческого судна, и не из-за бескорыстной любви к приключениям: просто мальчикам свойственно стремиться к победе. Работая креативным продюсером, я периодически спрашивал авторов плохих сценариев: а ты сам бы стал такое смотреть? – Я что, дурак? – отвечал каждый.
«Пиши правду», – такой автограф оставляет ученикам Макки на своей книге. Но это не так просто. Что и продемонстрировала Школа реальной журналистики в Туле. Мы услышали огромное количество живых, потрясающих историй. Когда их нам рассказывали. Но эти же истории выглядели бледными и тоскливыми, будучи изложенными в печатных материалах наших студентов. Базовая проблема тут простая: отсутствие конфликта. Потому что хорошая история – это всегда конфликт. А конфликты, понятное дело, у нас никто не любит. Особенно в региональной прессе. Это совершенно не наша сермяжная беда. Макки вспоминает, с каким трудом внушал передовым американским бизнесменам: без рассказа о том, как им приходится преодолевать трудности, слоника не продашь. Все привыкли продавать свои достижения. Гордиться которыми совершенно естественно и правильно. Но хорошо продается совсем другое. Хорошо продается история преодоления проблем. Потому что это – модель поведения.
На самом деле, все люди любят учиться. Просто не все понимают, зачем им это надо. Чтобы пересдать на тройку школьный выпускной экзамен по физике, мне пришлось зубрить наизусть правило буравчика. Я в упор не мог понять, зачем мне идиотские катушки, векторы, скаляры и прочая бессмыслица, которая никоим образом не коррелирует с моими филологическими или бытовыми интересами. А сегодня я запоем читаю про множественные или голографические вселенные, гиперпространство и парадоксы квантовой механики: уже потому, что они помогают мне придумывать истории.
В России две беды: мы не умеем рассказывать о себе и не понимаем, что интересно другим. Вот с этим и необходимо работать. Мы безумно интересны миру не только балетом, ракетами или загадочной русской душой. К сожалению, по большей части этот интерес заполняется кинематографической чернухой, которую сейчас принято считать соответствующей требованиям западных пропагандистов по политическим причинам: якобы этим и объясняются призы международных кинофестивалей фильмам типа «Левиафана». Осмелюсь предположить, что это не так или, как минимум, не совсем так.
Интерес, как и было сказано, вызывает конфликт. А конфликт наши сценаристы и режиссеры почти повально видят в чернухе. По крайней мере, в артхаусном кино, которое и является единственным фестивальным продуктом. Но вот в 2017 году на Каннском международном кинофестивале фильмов о людях с ограниченными возможностями Гран-при завоевала (и была куплена для французского проката) замечательно светлая (извините за выражение) короткометражка сценариста и режиссера Анны Зайцевой «Сама дура», в которой рассказывается всего-навсего о конфликте двух сестер, да еще и с хэппи-эндом.
Для человека, охреневшего от фейсбучной политизированной чернухи, слушать истории, которые привезли со всей Тульской области журналисты и сотрудники некоммерческих организаций, было без преувеличения глотком чистого воздуха. Нашей задачей было, в частности, научить представителей НКО вдохновлять журналистов своими историями, а журналистов – делать эти истории драматичными, поучительными и жизнеутверждающими. Ведь именно этим отличается продукция, которую поставляет всему миру Голливуд здорового человека.
За недавней «патриотической» обструкцией американского сериала «Чернобыль» мне было наблюдать, мягко говоря, неприятно. Да, там были искажены многие факты и даже биографии людей, представленных под собственными именами. Да, никакой симпатии к руководящей роли коммунистической партии и советского правительства там не наблюдалось. Но там было главное: любовь и уважение к русским героям, спасавшим мир. Восхищение мужеством наших самоотверженных людей и ненависть ко лжи. Героизация подвига. Все как в старом добром советском кино, между прочим.
И этот фильм про нас порвал все рейтинги телесмотрения, обогнав даже «Клан Сопрано». Нас хотят видеть хорошими. Как хотят видеть хорошими китайцев и иранцев, корейцев и нигерийцев, французов и украинцев. Но нас никто не обязан показывать хорошими. Кроме нас самих. А мы не должны заниматься бездарной пропагандой, которая никому не интересна. Мы должны показывать, как вместе преодолеваем проблемы, делая нашу жизнь лучше, учась слышать друг друга и уважать друг друга. Такие истории понимает весь мир. Такие истории помогают жить.
19 августа 2019
ОППОЗИЦИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В СОДЕРЖАНИИ
У меня есть друг. Говорят, после сорока друзья не заводятся, но в моем случае это, к счастью, не так. Пальцев одной-двух рук, чтобы пересчитать друзей, всегда хватит, но и лишиться их – как пальцы отрубить. Так вот, с этим другом есть единственная проблема – он идейный коммунист. Впрочем, это скорее казус, чем проблема. Особенно для либерального охранителя, в качестве которого я теперь люблю себя идентифицировать, начитавшись философа Чичерина (дядю того самого красного наркоминдела), – который на самой заре александровских реформ, в 1861 году, написал примечательную статью «Различные виды либерализма». Насчитал он три типа, описав характерные черты их носителей.
Первый – либерал уличный: «он всех своих противников считает подлецами. Низкие души понимают одни лишь подлые побуждения. Поэтому он и на средства не разборчив. Он ратует во имя свободы; но здесь не мысль, которая выступает против мысли в благородном бою, ломая копья за истину, за идею. Все вертится на личных выходках, на ругательствах; употребляются в дело бессовестные толкования, ядовитые намеки, ложь и клевета. Тут стараются не доказать, а отделать, уязвить или оплевать».
Второй тип – либерал оппозиционный, для которого «первое и необходимое условие – не иметь ни малейшего соприкосновения с властью, держаться как можно дальше от нее. Это не значит, однако, что следует отказываться от доходных мест и чинов. Для природы русского человека такое требование было бы слишком тяжело. Многие и многие оппозиционные либералы сидят на теплых местечках, надевают придворный мундир, делают отличную карьеру, и тем не менее считают долгом, при всяком удобном случае бранить то правительство, которому они служат, и тот порядок, которым они наслаждаются. Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу власти, – Боже упаси! Тут поднимется такой гвалт, что и своих не узнаешь. Это – низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять в оппозиции и ругаться».
Себя Чичерин, очевидно, отождествлял с третьим, о котором писал настолько комплиментарно, что и выбора мне не оставил: «Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началом власти и закона… либеральные меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и свободу совести, дающие возможность высказываться всем законным желаниям; сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть твердая рука, на которую можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических стихий и против воплей реакционных партий».
С одной стороны, трудно отказать себе в желании поиронизировать над Борисом Николаевичем (Чичериным): третий тип словно представляет собой гибрид дорвавшегося до власти первого и второго (на высоте наших культурных кодов – Шарикова и Преображенского). С другой – типы эти настолько узнаваемы, что становится довольно страшно от того, что за полтора с лишним столетия в нашей общественной жизни, разрубленной кровавой революцией, по сути, не изменилось практически ничего. Как Феникс из пепла, возродилась она во всем своем идиотизме.
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Настаивать на собственной правоте для кого-либо ещё мне кажется пошловатым и безвкусным. В конце концов, я не содержу дом идеологических моделей. Хотя именно эти модели во многом определяют наше сознание. Так вот, главной ценностью мне видится эмпатия к чужим взглядам. Эмпатия отличается от уважения и симпатии, которых в нашем обществе ждать традиционно не приходится. Это скорее замешанное на понимании сочувствие, не заставляющее эти взгляды разделять.
За бутылкой мы с моим другом-коммунистом бредовые идеологические вопросы никогда не обсуждали (видимо, каждому это кажется очевидно дурацким занятием при наличии более содержательного). Но в фейсбуке на потеху публике периодически ведем в комментах нуднейшие споры о прелестях и ужасах советской власти. Что самое смешное, ни прелестей, ни ужасов никто не отрицает, – водораздел проходит между прелестями (ужасами) гарантированной пайки в социалистическом концлагере и ужасом (прелестью) завтрашнего дня в кругу люто завывающих акул капитализма. Спор о гипотетических моделях будущего лучше загодя доводить до абсурда.
Я вспоминаю эти наши разногласия в контексте обвинений, которые периодически слышу: дескать, все благорастворяющие охранительные сентенции нужны мне исключительно для того, чтобы заглушить больную гражданскую совесть, которой для исцеления необходимо присоединиться к протестам лучшей части общества. Оправдываться за свою совесть мне кажется слишком комичным (пусть уж лучше о ней продолжают судить другие), а вот разобраться с предлагаемым планом её лечения весьма полезно. Тут как раз и повод подходящий: очередная годовщина Преображенской революции, которой провозгласил август 1991 года Солженицын. А я бы назвал ее революцией Недеяния.
Люди у Белого дома не пытались изменить мир. Они не лезли ничего штурмовать. На тех баррикадах защищали статус-кво, и это было, кажется, впервые в истории России. Как если бы в ночь с 25 на 26 октября 1917 года прогрессивная интеллигенция защищала бы Зимний дворец. У Белого дома отстояли революцию сверху. Рискуя жизнями и не считая, что «мы здесь власть». Одни против танков, которые через два года будут палить по тому же зданию прямой наводкой. Они отстояли свободу. Но, как это обычно и водится, свобода зажила своей жизнью, пожирая своих детей. Оказалось, что прекрасные порывы имеют ограниченное время горения, в отличие от аппетитов, которые приходят во время еды.
Примерно то же произошло и после Октябрьской революции: тогда прогрессивная интеллигенция тоже поддержала новую власть, и тоже раскололась: одни припали к советской кормушке, другие – отплыли на философском пароходе, или отбыли в места, не столь отдаленные, или отправились во внутреннюю эмиграцию. Из этой истории тоже никто не извлек никаких уроков. Все возвращается на круги своя. Мне кажется, к этому можно относиться только философски: по крайней мере, если не мнишь себя В. И. Лениным. Когда у меня возникает чувство протеста, я первым делом задумываюсь: что могу сделать ради того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию? В качестве ответа идея игры в прятки с ОМОНом на бульваре в голову мне еще никогда не приходила. Читать Чичерина было бы смешно, когда бы не было так грустно:
«Оппозиция не нуждается в содержании. Все дело общественных двигателей состоит в том, чтобы агитировать, вести оппозицию, делать демонстрации и манифестации, выкидывать либеральные фокусы, устроить какую-нибудь штуку кому-нибудь в пику, подобрать статью свода законов, присвоив себе право произвольного толкования, уличить квартального в том, что он прибил извозчика, обойти цензуру статейкою с таинственными намеками и либеральными эффектами, или еще лучше, напечатать какую-нибудь брань за границею, собирать вокруг себя недовольных всех сортов, из самых противоположных лагерей, и с ними отводить душу в невинном свирепении, в особенности же протестовать, протестовать при малейшем поводе и даже без всякого повода. Мы до протестов большие охотники. Оно, правда, совершенно бесполезно, но зато и безвредно, а между тем выражает благородное негодование и усладительно действует на огорченные сердца публики».
20 августа 2019
КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ
В науке о сознании есть интересное и труднозапоминаемое понятие, пришедшее из генетики: компартментализация (раздельное мышление). Википедия описывает его так: «Раздельное мышление – это защитный механизм, позволяющий человеку умещать в себе логически несовместимые установки. Если по каким-то причинам человек нуждается в каждой из своих несовместимых установок, то осознание возникающего противоречия начинает занимать мысли попытками это противоречие разрешить (зачастую с помощью рационализаций). Чтобы этого не происходило, человек может начать „раздельно мыслить“ – не осознавая противоречия между ними, придерживаться всех несовместимых установок сразу. Со стороны это выглядит как простое лицемерие, но сам человек в этом случае придерживается своих установок вполне искренне, хотя и использует в каждом конкретном случае только одну из них».
Вы, наверное, прекрасно знаете (хотя бы по социальным сетям) людей, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, вполне нормально защищать права и свободы от граждан, которые их недостойны, логично правым глазом видеть слезинку одного ребенка, а левым – не замечать слезинку другого, и уж совсем обыкновенно, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение. Неудивительно, что слово «компартментализация» попахивает компартией. Нельзя сказать, что эти мыслители совсем не чувствуют интеллектуальных неудобств. Я довольно внимательно слежу за флуктуациями общественно-политического дискурса, и с удовольствием отметил, как они начали возмущаться повсеместным употреблением термина «когнитивный диссонанс».
Надо сказать, этот тип мышления появился не сегодня. Полвека назад в своей статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура» Владимир Кормер объяснял: «это такое состояние разума, для которого принципом стал двойственный взаимопротиворечивый, сочетающий взаимоисключающие начала этос, принципом стала опровергающая самое себя система оценок текущих событий, истории, социума… интеллигентская раздвоенность, хотя и доставляет неисчислимые страдания и ощутимо разрушает личность, все же, как правило, оставляет субъекта в пределах нормы, не считается клинической, что объясняется, безусловно, прежде всего тем, что двойное сознание характеризует целый социальный слой, является достоянием большой группы, а не есть исключительно индивидуальное сознание».