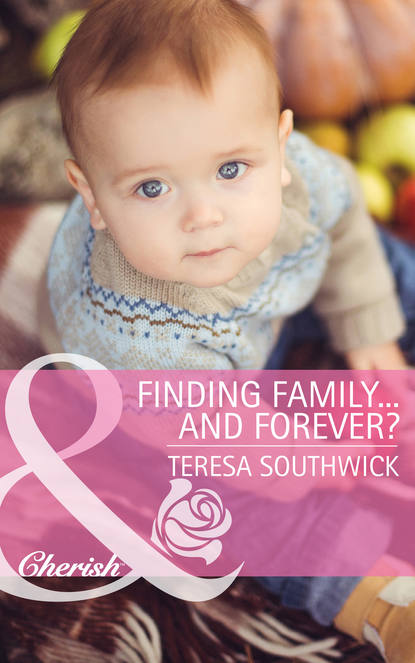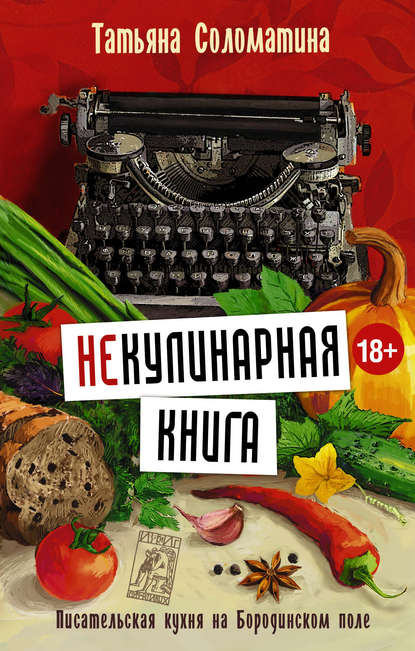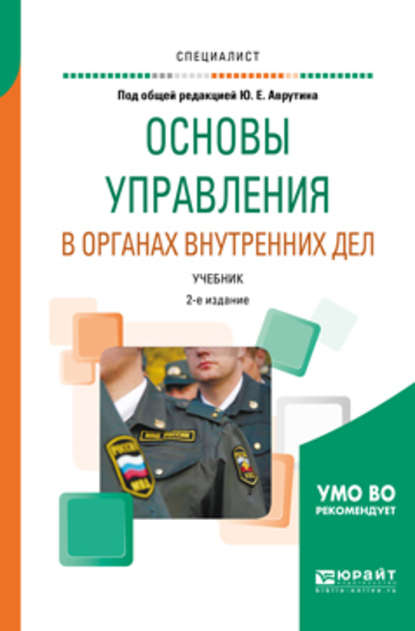Человек и свобода. Дневник реакционера
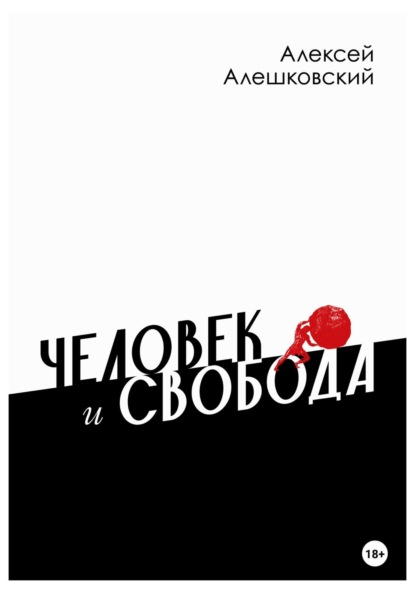
- -
- 100%
- +
Один товарищ как-то сформулировал мне краеугольный камень своей политической философии: «Путин – абсолютное зло». Хотя этот тезис очевидно глуп (куда же ему девать в этой иерархии Гитлера и Сталина?), он одновременно очень интересен. Когда читаешь комменты каких-нибудь мелких бесов про доктора Лизу или Нюту Федермессер, понимаешь: если Путин – абсолютное зло, то все дозволено. Ведь чудовищные вещи пишут не дегенераты или психически больные люди, а нормальные социализированные граждане, обладатели ученых степеней, во многих случаях – пользующиеся общественным авторитетом. Феномен заключается в том, что этика становится инструментом политических манипуляций. Совершенно непонятно, почему этих людей возмущают Киселев и Соловьев.
Помимо термина «когнитивный диссонанс» их раздражает и мем «окно Овертона», которым описывается концепция внедрения в сознание людей мысли о нормальности ранее неприемлемого. Несложно понять, что такое внедрение должно происходить незаметно, само собой, а не вызывать дискуссии, которые могут отрицательно отразиться на процессе и результате промывания мозгов. Мы видим, как старательно внедряется в сознание прогрессивной общественности тезис о том, что Путин занимается ползучей реставрацией советской власти. Казалось бы, полнейший абсурд. Однако теперь изреченная ложь становится мыслью. А растиражированная – формирует картину мира.
Вроде бы надо определиться: или уж советская власть, или кровавые гримасы антинародных реформ госкапитализма. Нет, и так сойдет. Пипл схавает. Дальше – больше. С одной стороны, мы сейчас живем при самом либеральном и вегетарианском режиме в российской истории. Так уж случилось, даже если он вам не нравится. С другой – с таким настроением слоника не продашь. Соответственно, необходимо подчеркивать его кровавость. Каким образом? Разумеется, навесить на него груз коммунистических репрессий, да еще подчеркнуть преемственность. Путин открывает в центре Москвы мемориал памяти их жертв? Можно назвать это издевательством. Но вы только что говорили, что кровавый режим уничтожает память о жертвах?
И вот – новый поворот. «Как в свое время Николай Второй, Вы готовите в стране революцию», – пишут Путину Гозман, Орешкин и Улицкая. С познаниями в истории у этих мыслителей явная напряженка, но фразеология симптоматична. Хотя только в прошлом году Улицкая заявила, обескуражив прогрессивную общественность: «Мне кажется, что Россия никогда так хорошо не жила, как сейчас». Итак, кровавый реставратор советской власти, при котором Россия живет хорошо, как никогда, готовит революцию как Николай Второй. Шизофрения? Нет, компартментализация. Нормально разоблачать ужасы советской власти и всем сердцем слушать музыку революции. Совершенно нормально и не удивляться этому.
«Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие – душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, – всё это абсолютно необходимо». Это уже Джордж Оруэлл.
Больше всего мне интересно, как эти люди представляют себе революцию. Ну ладно, уроки истории они не учили или предпочитают игнорировать. Но их угораздило родиться с умами и талантами в России, среди ватников и анчоусов, составляющих – по их же подсчетам – 86% населения «этой страны». Так и представляю честные выборы в прекрасной России будущего, на которых баллотируются Гозман и Милов. Когда на самых честных выборах 1993 года победил Жириновский, Юрий Карякин в сердцах возопил: «Россия, одумайся, ты одурела!» Но разве она одурела? Демократия хороша для прогрессивной интеллигенции только тогда, когда фиксирует искомые результаты, как в 1996 году, – а не когда приводит к власти Гитлера или распинает Христа. «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа», – писал В. И. Ленин, который знал толк в байках для доверчивого электората. Чтобы открыть России глаза, требуется умыть ее кровью. Но закончится ли вечный день сурка?
3 сентября 2019
КТО БЫЛ НИЧЕМ, ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ
«Ну всё! Храмы сносим, бассейны строим!» – весь в смайликах, пост в общедоступной фейсбук-группе одного из округов, где победило «умное голосование». «Сразу видно, что вата – это присоски-понаехи в успехорайонах» – это другой пост, с инфографикой УГ по Москве. «В десятках миллионов россиян разглядеть человека давно не реально», – пишет комментатор с интеллигентной фамилией под робким замечанием какой-то женщины: «Я категорически против слова „вата“. Если не видеть в другом человеке человека, то зачем вот это все?»
Картина маслом, как говорится. Будучи охранителем, я вижу проблему не в протестах, которые мне хорошо понятны эмоционально – как реакция на несправедливость. Проблема в содержательности протеста. Жванецкий давно заметил: «История России – борьба невежества с несправедливостью». К сожалению, приходится констатировать, что протест, – стихийно или специально, но почти всегда, – ограничен эмоциональной сферой. В некотором роде это естественно: всё разумное требует компромисса. Поскольку мир не идеален, а, по некоторым данным, и вовсе несправедлив, даже в передовых демократиях борьба за элементарные права длилась десятилетиями.
Советские люди искренне смеялись над кинематографическим злодеем, который пытался скомпрометировать всенародную любимицу Любовь Орлову криком «У этой женщины – черный ребенок!» На законодательном уровне СССР покончил с ксенофобией и расовой сегрегацией задолго до США. Другое дело, в отличие от Советского Союза, Соединенные Штаты не развалились под грузом межнациональных проблем. Как говорил другой американский киногерой, «у каждого свои недостатки» – скажем, любителям поговорить о рабской России стоит вспоминать, что в прогрессивных США рабство было отменено на 4 года позже. Но речь не о сравнении истории несправедливостей.
Основное содержание наших протестов – «за всё хорошее и против всего плохого». Если они и имеют причины, то последствия у них практически отсутствуют. Потому что власть тоже за всё хорошее и против всего плохого, только вот понимает это по-другому. То есть точек пересечения не возникает. А пока содержательная коммуникация отсутствует, рулить продолжают кнут и пряник. Замкнутый круг. Нельзя сказать, чтобы это была проблема одной лишь оппозиции: искать общий язык никому не с руки. Потому что сложно. Нужно понимать правоту другого, договариваться, искать компромиссы. Проще ведь обойтись привычными лозунгами, которые все прекрасно объясняют и без подключения мозга.
При этом, если власть все-таки периодически идет на компромиссы (ей-то, в отличие от оппозиции, нужно балансировать), то лидерам протеста это кажется бессмысленным: «мы здесь власть». Прекрасным примером явилось дело Голунова, когда несанкционированный митинг за его свободу с массовыми задержаниями состоялся на следующий день после освобождения журналиста. Понятно, что тактика оппозиции – «качать режим», создавая ему имидж кровавого. Но, когда теория управляемого хаоса оборачивается практикой абсурда, можно только констатировать отсутствие каких-либо конструктивных задач (если, конечно, под конструктивностью мы понимаем осмысленную коммуникацию для выстраивания игры с ненулевой суммой).
Пока вы поступаете так, как привыкли, вы будете получать то, что получали всегда, – гласит управленческая мудрость. В определенном смысле нынешние идеологические оппоненты тоже остаются при своих: одни – при власти, другие – при глубокой убежденности в собственной моральной правоте. Но если власть у нас передается в результате каких-никаких, но демократических процедур, то моральная правота – не то воздушно-капельным, не то половым путем. «В десятках миллионов россиян разглядеть человека давно не реально», – бросает со своего нравственного Монблана никому не известный упырь, которому фейсбук дал голос. Проблема не в высказываниях бобчинских и добчинских, проблема в том, что они заразны.
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Мне вспоминается едва ли не единственный содержательный лозунг с Болотной: «вы нас даже не представляете!» Жулики, хипстеры, либералы, воры, предатели родины, ватники, пятые колонны, каратели, анчоусы, другой биологический вид: понятно, что нашему сознанию необходимо классифицировать объекты, но коммуникация нуждается в эмпатии. Когда перед нами – не человек, а черный ящик, на котором написано «патриот» или «либерал», «козел» или «дура», мы заранее знаем, что будет на выходе из этого ящика, какую информацию в него ни заложи.
Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл разглагольствовать о свободе и демократии? Без уважения друг к другу гражданское общество невозможно в принципе. Если крепостное или советское рабство давно остались позади, то духовное никуда не делось. Мы живем в состоянии гибридной гражданской войны, – и при наличии разрухи в головах это совершенно неудивительно. «Никогда я не буду голосовать за коммунистов/яблочников/едроссов!» – наперебой талдычат друг другу неравнодушные граждане в социальных сетях. Хотя в любой партии могут быть достойные люди. Просто у них другая жизнь, другой опыт, круг чтения и общения, интересы, проблемы и ответственность.
Если партия, которая вам не нравится, представляет большую часть ваших соотечественников, не стоит считать их другим биологическим видом. Если за идеологическими лагерями вы не видите людей, то и до концентрационных рукой подать. Кто был ничем, тот, разумеется, не против стать всем. Но когда единственным показателем перемен оказывается появление новых лишенцев и новых бенефициаров, речь не о развитии гражданского общества, свободе, равенстве или братстве. Разве что об очередном переделе собственности, перекрашивании стен и уценке ценностей. Худой гражданский мир лучше доброй гражданской войны.
Государство может защитить людей друг от друга, но не от глупости. А ум не передается вместе с партбилетом. В 1991 году это еще было очевидным. А потом наступила демократия, партии стали плодиться как кролики, и люди растерялись: раньше мы были за или против КПСС, а теперь – еще поди выбери, как из десятков шампуней на полке в супермаркете. Есть хороший анекдот про еврея, который попал на необитаемый остров и построил там две синагоги: «чтоб в одну – ни ногой»! Мы привыкли к образу идеологического врага, который придает нашей жизни смысл и цель. А вот научиться не видеть врага в оппоненте – почти непосильная задача. Ведь если оппонент – не враг, то с ним нужно договариваться. А как?..
11 сентября 2019
МЫ ХОТИМ УЗНАВАТЬ СЕБЯ В ДРУГИХ
«„Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым“. И, однако, прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, истинно от века и на веки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется „покорение действительности“; на новоязе – „двоемыслие“», – констатировал Оруэлл в романе «1984». Манипуляция историей давно стала любимым инструментом политических пропагандистов.
Все мы наблюдаем ежегодно разгорающуюся с приближением 9 мая битву за Победу: очередным «оружием возмездия» в ней стал программный текст Глеба Морева, в котором он декларировал: «Из по преимуществу мемориального ритуала «со слезами на глазах», связанного с частной памятью о понесенных в войне огромных утратах, День Победы превратился в повод для напоминания о военном триумфе сталинского СССР и подтверждения силового статуса нынешней России, наследницы советского государства-победителя. Эта трансформация, однако, исключает наш национальный праздник из мирового празднования победы стран-союзниц над фашизмом, делая его элементом государственной пропаганды и внутрироссийской общественно-политической полемики».
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается как знамена и обсуждается на полном серьёзе с соответствующим пафосом: к сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Однако тактику этой полемики бредовой назвать нельзя: она заключается в обесценивании прошлого, которое подается с гарниром политкорректных ценностей под соусом международного опыта. «Сегодня, в эпоху всемирного «этического ренессанса» и связанных с ним общественных движений и кампаний (от MeToo до «войны памятников» в США), главенствующим взглядом на историю становится взгляд не объективирующий, но морализирующий», – развивает свою мысль Морев, воспроизводя учение В. И. Ленина о классовой морали. Карикатурность приведенных им примеров тут тоже весьма характерна.
То, что в передовых демократиях принято гордиться своим государством и своим прошлым, пропагандист предпочитает не замечать – как государственные флаги над простыми американскими домами, которые в России смотрелись бы подозрительно сервильно, или торжественный парад в честь взятия Бастилии. То, что там нормально отделять мух от котлет – скажем, Декларацию независимости от рабства и геноцида индейцев или взятие Бастилии от кровавого террора, – для него тоже непринципиально, ибо не укладывается в логику искомого морального негодования. У нас с «фальсификацией истории» неуклюже пытаются бороться репрессивными мерами, которые выглядели бы комично, если б не копировали законодательную практику «свободных государств» типа Украины, Латвии и Литвы. Хотя понятно, что память о прошлом является инструментом государственной пропаганды – точно так же, как и культурное наследие.
Память об историческом прошлом от культурного наследия неотделима: они и составляют культурную идентичность нации, и они же логичным образом оказываются мишенями в политической борьбе (лес рубят – щепки летят). «Символически возвращая советских солдат под командование генералиссимуса Сталина, мы одновременно делаем их ответственными за продолжившиеся после победы преступления сталинского государства. В итоге в становящейся сегодня морализирующей исторической памяти настоящими победителями фашизма будут выступать западные демократии», – заключает Морев. Тут можно разве что вспомнить Галича: «И этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране».
С такими анекдотическими претензиями на политическую философию можно и нужно бороться только смехом: всё остальное только укрепляет чувство собственной значимости абсурда. То, что вопрос культурной идентичности в эпоху глобализации превратился в предмет политических спекуляций, довольно логично. Но очень смешно то, что наша прогрессивная интеллигенция и в этом вопросе предсказуемо ведет себя как полицейский надзиратель Очумелов в бессмертном рассказе Чехова «Хамелеон»: если культурную идентичность русских необходимо подвергать обесцениванию и развенчанию, то культурную идентичность украинцев надо всячески поддерживать, потому что даже украинский национализм является оружием борьбы с русским имперским мышлением: враг нашего врага – наш друг.
Поэтесса Алина Витухновская давеча перешла на суровую прозу, решив попробовать себя в сфере культурной рефлексии: «Конечно, мы должны хранить нашу культуру и традиции. Но при этом понимать, что болезненная приверженность культурной идентичности становится настоящей дикостью в современном мире. Также немаловажным является и то, что культура без или вне субъекта не имеет смысла. Поэтому мы должны всерьез задуматься над субъектной политической идентичностью, которая в перспективе заменит архаичную национальную». Над этим умопомрачительным поэтическим текстом можно было бы просто посмеяться, если бы он не отдавал модной ленинской симптоматикой «протестного» дискурса.
К чему ведет размывание культурной идентичности, мы видим на примере Западной Европы, где еще недавно разговоры об этом были уместны как пуканье за столом, а нынче постепенно превращаются в мейнстрим: уже не только Мишель Уэльбек пугает его последствиями в своих скандальных романах, но и респектабельная «Фигаро» твердит об этом из номера в номер. Кстати говоря, идеям глобализации культурная идентичность никак не противоречит: если говорить, предположим, о кинорынке, продается именно она. Россия, Украина, Китай или Иран никому не интересны как плацдармы для очередных «Макдональдсов» (кроме, разумеется, хозяев этих заведений или людей, считающих их символами свободы). Нам неинтересны бесполые люди без свойств, города без индивидуальности, культура без национальности. Мы хотим понимать, что совершенно другие люди – совершенно такие же, как мы. Мы хотим узнавать себя в других. В этом, собственно говоря, и смысл культуры.
«Подобно пробуждающемуся от спячки гиганту, мы встанем, разорвем путы неверия в себя и отсутствия веры в завтрашний день», – если бы это сказал Путин, сарказм прогрессивной интеллигенции вышел бы из берегов. Но этими словами поднимает Англию с колен Борис Джонсон. Каждая страна хочет видеть себя великой. Как каждый человек испытывает потребность в самоуважении. И никто не может смыть печальных строк из своей истории. Прошлое любой страны полно и омерзительных преступлений, и высот человеческого духа. Забывать об одном или другом может заставлять политическая выгода, а не здравый смысл. Любая история – одновременно и пример, и урок. Особенно если из нее не извлекают уроков: «Кто не помнит прошлого, обречен пережить его снова», – сказал Сантаяна.
16 сентября 2019
НЕ ЖАЛЕЙТЕ ФЛАГОВ
Ничто не дается нам так дешево и не ценится так дорого, как глупость. Глупость – это искусство давать и принимать простые и неправильные объяснения сложным вещам. Феномен Греты Тунберг заключается не в том, что ее пускают на трибуну ООН (устами младенца может глаголать все, что угодно, а взрослые сплошь и рядом несут такую ахинею, что и шведской прогульщице не снилась), а в том, что манипуляция умами докатилась до мышей. Вместо силы убеждения в моде убеждение силой. Пропаганда свободного мира стала совершенно тоталитарной.
В человеке заложена потребность быть правым. Или хотя бы казаться. Потому что необходимость декларировать свою правоту неиссякаема. Видимо, это сподвигает и меня рефлексировать на общественно значимые темы с целью повторения пройденного. Наверное, консерваторы любой эпохи замечают, как модным становится еще недавно неприемлемое, а только что общепринятое выглядит или слегка маразматическим, или излишне оригинальным. Чацкие и фамусовы поменялись местами.
Консервативный вкус или, можно сказать, реакционность привили мне Василий Васильевич Розанов и Тимур Юрьевич Кибиров. В их сочинениях я всегда чувствовал донкихотский протест, ведь Дон Кихот – это человек, выходящий с открытым забралом навстречу ветряным мельницам мейнстрима. Идальго не зря был назван автором хитроумным: придурком его герой определенно не являлся, и пародийный стиль повествования был данью безумию мира, а не героя.
Сатира позволяет увидеть анекдотичность в звериной серьезности, пародия – со всей анекдотичностью эту серьезность воспроизвести. В работе публициста мне нравится именно это. Наша гибридная гражданская война населила наш гибридный мир кучей мыслителей, которые насаждают свою правоту с непримиримым гражданским пафосом: они знают, как надо, и они являются носителями универсальной, единственно верной правды. Это совсем несложно: достаточно понимать, что есть два мнения: твое и неправильное. Жизнь в черно-белом цвете проста и удобна, хотя политически безответственные граждане могут пытаться разрушить ее гармонию поисками внутренних противоречий.
Если что-то в этом мире нам не нравится, это совсем несложно исправить: «Чемодан – вокзал – Израиль» или «Протест – революция – рай на земле». Наверное, многим такое сравнение не понравится. Но методологически и анекдотически эти стратегии достижения совершенства абсолютно идентичны. В чемодане и протесте нет ничего плохого, в вокзале и Израиле – тоже. Да и революция как провозвестница грядущего рая на земле для кого-то выглядит привлекательно. Но попытка выстроить из этих кубиков не только причинно-следственную связь, но и сценарий достижения счастья в одной отдельно взятой стране, оказывается на словах анекдотической, а на практике – кровавой.
«Удобство правильных решений» – гласила завлекательная реклама девяностых. Уже не помню, куда она завлекала, но определенно намекала еще и на правильность удобства. К сожалению, в жизни бывает все наоборот. Хотя бы потому, что правильность решений познается по их плодам, а удобство с правильностью вообще никак не соотносятся. Я, надо сказать, ничего не имею против протеста. Это – совершенно нормальная форма коммуникации общества и власти. До тех пор, пока не начинается бессмысленный речитатив «мы здесь власть». Власть, граждане, вы выбираете. И если 80% ваших сограждан эта власть устраивает, вам просто не повезло родиться со своими умами и талантами в этой стране с этим народом.
В этом и проблема демократии: приходится терпеть то, что дают. Альтернативный вариант – пытаться организовать счастье для всех маленькой инициативной группкой, как это сделали большевики. Недовольных всегда можно загнать в ГУЛАГ. Новых большевиков всегда хочется спросить: ну, допустим, вы искренне собираетесь понизить тарифы ЖКХ и пенсионный возраст, повысить зарплаты, а также ввести природную ренту (бурный закадровый смех). Но каким образом вы предполагаете создать независимый суд и полицию с белыми крылышками? Предположим, люстрировать всех. Откуда новых набирать будете? Из Швейцарии завозить? Украинский опыт весьма показателен. Да и грузинский тоже: выяснилось, что анальные методы расправы с оппозицией как торжество свободы обществом не воспринимаются.
Вообще, все проблемы связаны с тем, что уживаться на одной территории приходится людям с самыми разными вкусами и интересами. Но и одну территорию нужно сегментировать. Скажем, прогрессивная интеллигенция вряд ли хочет существовать по соседству с пролетариатом. Она и бомжей хочет спрятать подальше: равноправие хорошо только для демагогии, а на практике порождает массу неудобств. Богатым нужны свои районы. Либералам желательно не иметь под боком патриотов, и наоборот. У кого-то проблемы с кавказцами, у кого-то с азиатами, у кого-то с евреями, а кто-то вообще ненавидит всех.
При этом все жаждут справедливости. Обыкновенно – за чужой счет. Никто не любит поступаться своими принципами, но чужими – сколько угодно. Почему не отведать бесплатного сыра, если в мышеловке окажутся другие? Проблемы в нашем мире чаще всего решаются или деньгами, или обманом. Обмануть одного человека – рискованно, обмануть миллионы – хорошо работающая идеология. Своему роману «Не жалейте флагов» Ивлин Во предпослал эпиграф китайского мыслителя, вероятно, им и выдуманного: «Малую несправедливость в сердце можно утопить в вине, великую несправедливость в мире можно утопить только в крови».
30 сентября 2019
ОШИБКА ВЫЖИВШИХ
Во время второй мировой войны в Нью-Йорке работал бежавший из захваченной Гитлером Австрии математик Абрахам Вальд. Он был одним из научных лидеров в секретной группе статистических исследований, которая решала военные задачи для авиации союзников. В соответствии с рекомендациями ученых комплектовались боеприпасы, проверялось авиатопливо, разрабатывались схемы бомбардировок. В один прекрасный день перед статистиками поставили новую проблему: разобраться с тем, в каких местах нужно укреплять броней фюзеляжи самолетов. Когда брони мало, это плохо с точки зрения безопасности, когда много – с точки зрения маневренности и экономичности.
Осмысленный баланс должны были высчитать математики. Исходными данными были материалы о количестве и расположении пробоин на самолетах, вернувшихся с боевых заданий. Казалось бы, где больше всего дырок, туда и надо ставить больше брони. Но решение Вальда оказалось совершенно неожиданным и на первый взгляд парадоксальным: максимально укреплять необходимо те места, в которые было меньше всего попаданий. Ларчик открывался просто: после прямого попадания, например, в двигатель летчик не мог вернуться на базу. Тогда как пробоины в крыльях особых проблем не представляли: многие самолеты благополучно возвращались продырявленными, как решето. То, что казалось очевидным на удачных примерах, оказалось ложным выводом, не учитывающим того, что осталось за кадром. Впоследствии это было названо «ошибкой выжившего».