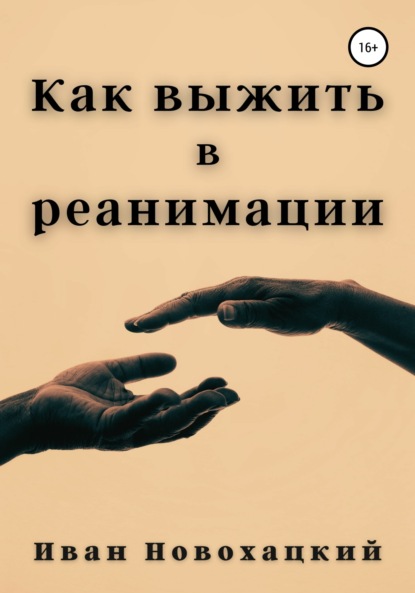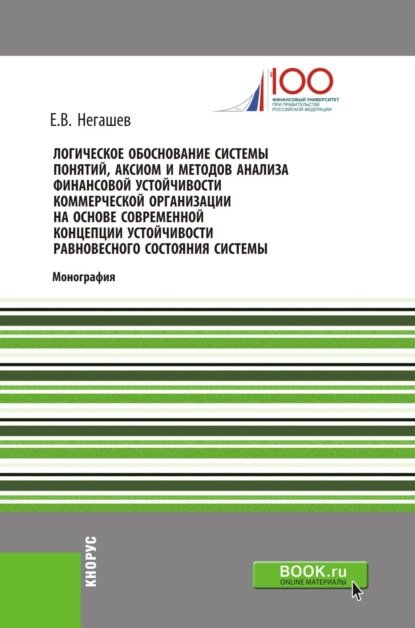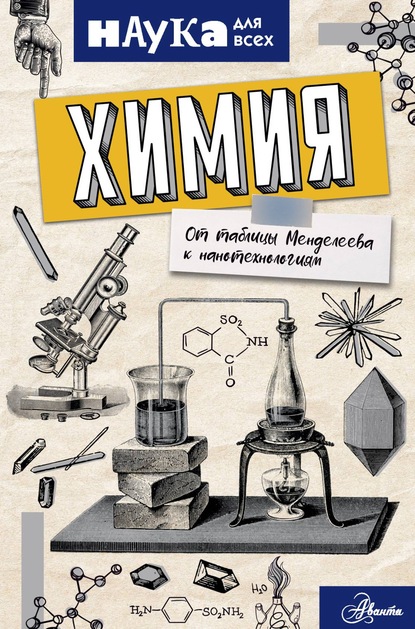Человек и свобода. Дневник реакционера
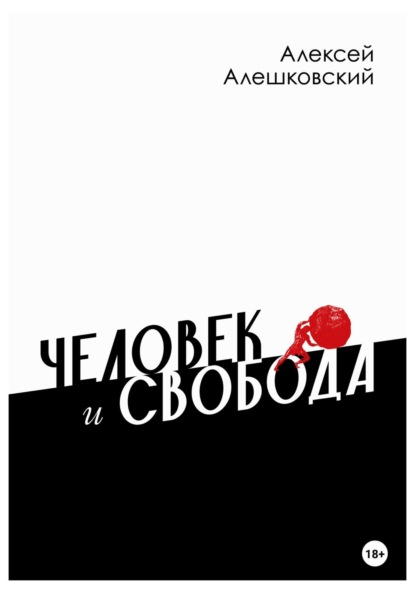
- -
- 100%
- +
В наше время прекрасных мотивирующих историй полезно вспоминать об этой ошибке. Сегодня книжные магазины и социальные сети ломятся от пособий и курсов «как стать богатыми и счастливыми» от людей, которые стали богатыми и счастливыми разве что благодаря продаже этих банальностей в оригинальной упаковке (что, разумеется, тоже хорошо). Учиться можно на любых примерах; важно знать, какое место прикрывать, и где подстелить соломки. «Они не вписались в рынок», – снисходительно или брезгливо говорили бенефициары демократических перемен о врачах, учителях и пенсионерах, оставшихся за бортом ударного капиталистического строительства. Подразумевая, что уж их-то, обладающих недюжинным экономическим чутьем, сбить не точно могли. Но какое количество вписавшихся новых русских полегло с пробоинами в малиновых пиджаках на полях сражений за светлое будущее?
Люди любят судить о других по себе. «Моих не сажали», – услышал я как-то в дискуссии о сталинских репрессиях. Этот аргумент призван был очевидным образом подчеркнуть справедливость мироустройства, в котором покосило чужих, а не своих. Правда, во времена Большого террора палачи сплошь и рядом вставали к стенке вслед за своими жертвами. Ошибка выжившего мертвого не научит. Казалось бы, когда мы говорим о сопереживании другим, это чистая лирика. Если, конечно, их нельзя поднять на знамя.
Давеча прогрессивная интеллигенция придумала шествие «Бессмертный ГУЛАГ». Этот идиотский оксюморон, вслед за «бессмертным бараком», призван пародировать «Бессмертный полк». Креативный дефицит светлые головы совершенно не смущает. Лишь бы продемонстрировать «кровавый режим» наследником настоящих людоедов, попутно обесценив память о павших в Великой Отечественной: раз её использует власть, значит, надо бороться и с ней. Думаю, в рамках этого абсурда пора организовать и патриотические акции – неплохо будут звучать «Бессмертная приватизация», «Бессмертный дефолт» или «Бессмертный беспредел». Ну, а для пополнения сокровищницы протестного креатива можно предложить «Бессмертный расстрел».
Ошибка выживших заключается в том, что опыт погибших они склонны игнорировать, а простое везение готовы принимать за жизненный закон. Одним наплевать на жертв коммунистического режима: у нас-то ведь тогда было всё в порядке. Другим – на жертв демократического: ну, не заслужили они лучшей жизни, не вписались в свободу. Если вспомнить историю с самолетами, все летчики изначально находились в равном положении в одинаковых машинах. Но не всем повезло. Везение – фактор иррациональный, и от количества брони не зависящий. Его даже научными методами не перебить. Статистически самолетами летать очень безопасно, но, если ваш самолет рухнул, вас это уже вряд ли утешит. Между прочим, сберегший своим открытием кучу жизней Абрахам Вальд погиб в мирное время именно в авиакатастрофе.
Зачем же думать о других? Только потому, что равенство записано в Конституции? Но мы любим ссылаться на нее только тогда, когда нам это на руку. Сейчас очень модно напоминать про гарантированную Конституцией свободу слова, начисто забывая, что в той же статье черным по белому писано: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства». Конституция – она ведь не только о правах и свободах. Она еще и об их ограничениях. Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других – в этом дух Конституции.
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон, называемый «Золотым правилом», гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Эту заповедь оставил и Христос. Только она дает гарантии выживания. Идеология любого превосходства – это фашизм. И он никуда не исчез. Идея любить другого как самого себя, конечно же, кажется невыносимой. Но библейские истины не настолько оторваны от жизни, как это может показаться. Как правило, ненавидит других тот, у кого и с самим собой большие проблемы. Лучше понимая других, и себя начинаешь понимать лучше. Ошибка выжившего – урок живым. Главное – помнить о тех, кто умер ради того, чтобы мы не совершали прежних ошибок.
2 октября 2019
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ, ТОЛЬКО МЫ НЕ УМЕЕМ О НЕМ РАССКАЗЫВАТЬ
Поддержанный президентом России запрос на хорошие новости – хорошая новость. Значит, чернуха достала всех. Проблема в том, что рейтинги новостям дает именно она. Маньяки, ограбления, катастрофы. По крайней мере, практика вроде бы именно это и показывает. Но не имеем ли мы дело с типичной «ошибкой выжившего»? С тем, что рейтинги могут давать не те «хорошие новости», которые мы привыкли видеть (в городе N торжественно введен в строй новый мясокомбинат/мост/дворец культуры), а те, которые мы не видим, потому что они умерли? Самая большая опасность кампании за хорошие новости заключается в том, что она может выродиться в насаждение торжественных реляций на манер советского киножурнала «Новости дня».
К сожалению, журналистика стремительно деградирует во всем мире, превращаясь из средства массовой информации и коммуникации в инструмент идеологического обслуживания. Бесспорно, государственная идеология необходима для сплочения нации. Но нации сплачиваются не красивыми лозунгами, а общими ценностями. Система ценностей имеет прямое отношение к трансляции позитивных смыслов и моделей поведения: Голливуд сумел сделать Америку привлекательной во всем мире не только за счет качества своих зрелищ, но и благодаря пропаганде простых ценностей, которые оказались общечеловеческими. То же можно сказать и о лучших историях советского кинематографа.
Между ценностями разных народов общего больше, чем антагонистического; различия относятся скорее к культурным и ментальным особенностям, ведь базовые этические ценности универсальны. Коллективизм присущ русскому национальному сознанию точно так же, как индивидуализм – американскому, но это совершенно не означает, что истории личного успеха не свойственны и не интересны русским, а истории коллективного преодоления трудностей – американцам. Все народы, населяющие Россию, обладают собственными культурными особенностями, но от этого они не перестают быть единым целым. Формирование культурной общности многонациональной страны и ее системы ценностей – прямая задача государства.
Как и в сфере культурной политики, в области СМИ она не решается простыми директивными методами. Хорошие новости тоже могут вызывать отторжение, если рапорты об отдельно взятых успехах не соответствуют картине мира, сложившейся в умах людей. Хорошие новости – это сложная профессиональная задача не в смысле ингредиентов соуса, под которым их нужно преподносить, а в смысле умения рассказывать мотивирующие истории. Хорошие новости – это не рапорты об успехах, которыми советская пропаганда делала сытыми по горло своих граждан, а истории преодоления трудностей. Когда я рассказываю журналистам о драматургических принципах рассказывания историй, они не сразу понимают, что к чему. Казалось бы, где драматургия и где журналистика?
Чаще всего журналисты воспринимают себя как акынов: что вижу, то и пою. Съездили на пресс-конференцию, или на открытие чего-нибудь, или записали на камеру чью-то жалобу, – тяп-ляп, и репортаж готов. Что греха таить, это сейчас практически повсеместно. Программа «Времечко», на которой мне посчастливилось работать и корреспондентом, и креативным продюсером, воспринималась как маргинальная, потому что вела речь не о паркетных новостях и великих свершениях, а о событиях из жизни простых людей. И хороших событий там было достаточно. Просто надо было уметь не только их найти, но и найти способ их рассказать.
«Где взять конфликт?» – спрашивают меня журналисты, которым надо рассказывать о каких-нибудь историях успеха. – «И зачем этот конфликт нужен, если у нас хорошие новости?» Драматургическое понятие конфликта принято путать со скандалом: где есть конфликт, хороших новостей быть не может. Но все совершенно наоборот: новость о том, что где-то открыли замечательный мост или прекрасную больницу, любому читателю или зрителю безразлична, пока он не чувствует с этой новостью эмоциональной связи. Это ладно, если мост Крымский, а если он где-нибудь в маленькой деревне? Каким образом вообще можно рассказывать о маленьких историях успеха? Как сделать их интересными большой стране?
Давеча мы обсуждали репортаж о пенсионере, который пытался обустраивать двор своей «хрущевки» вопреки соседям, которые ставили ему палки в колеса. И обустроил. В общем, явно хорошая новость. Но совершенно невыразительно рассказанная. Ее и не вспомнишь, если не начать разбираться. А ведь эта история могла бы стать материалом для замечательного специального репортажа, если бы понялась до уровня метафоры. Каким образом? В любом конфликте у каждого – своя правда. И совершенно необязательно, что в любом конфликте одни – хорошие, а другие – плохие. Журналист – не прокурор, ему надо разбираться в мотивах, а не выносить вердикты. Вердикт пусть выносит читатель. Каждый для себя. С историями добрых дел, которые не остались безнаказанными, сталкивался, наверное, любой.
Хорошо рассказанная история – это та, в которой мы понимаем мельчайшие движения души и все странности мотивов ее участников, все их внутренние противоречия. Если сегодня мы имеем дело с историей успеха, значит, вчера она была историей преодоления. Хорошо там, где было плохо. Победа – всегда результат конфликта. Люди не могут эмоционально подключиться к хорошим новостям, если они идут вразрез с их опытом. В сказки они давно не верят. А пессимистические настроения связаны не только с объективными проблемами, но и – возможно, в первую очередь, – с отсутствием моделей решения этих проблем.
Сегодня идеология протеста по большей части перехвачена популистами. Их «революционная» модель решения проблем описывается коротко: прекрасная Россия будущего станет результатом смены власти. Инфантильность и опасность подобной идеологии доказывают уроки нашей истории. Как можно видеть и на примерах истории соседних стран, в лучшую сторону общество меняется только эволюционным путем. И эта эволюция происходит в сознании людей. Мы должны учиться понимать себя и других, и извлекать уроки из своей истории. Хорошие новости – это, в первую очередь, модели конструктивного решения сложных проблем. Это – модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Представителям государства необходимо учиться им точно так же, как и гражданам страны. Обратная связь общества с властью – это и есть демократия. Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать.
13 октября 2019
НАМ ВСЕМ НУЖНА СВОБОДА ДРУГ ОТ ДРУГА
Потребность в свободе для человека совершенно неочевидна: ее даже в пирамиде Маслоу нет: там базовыми являются физиологические потребности, по мере удовлетворения которых у человека появляются потребности в безопасности, принадлежности, признании и самовыражении. Впрочем, не исключено, что для кого-то она верна в перевернутом виде: в современном искусстве, например, самовыражение частенько сопряжено с публичным совершением физиологических отправлений. Все относительно.
Зато понятие свободы стало одним из ключевых в современном протестном дискурсе. Разумеется, любой протест – он о свободе от чего-то. Даже от тещи или манной каши. Отец рассказывал, как в младенчестве я скакал в манеже с криками: «Пусти на свободу!» В российской истории, исполненной ужасов рабства и тоталитаризма, свобода – не пустой звук. Но мне любопытно поговорить о том, как на новом витке обустройства России происходит ее приватизация.
Понятное дело, на Западе свободы не хватает тоже. Одним нужна свобода от Трампа, другим – от глобального потепления, четвертым – от Европы, пятые мечтают о свободе от Британии, шестые – от Испании, и т.д. В одних случаях прямо-таки тоталитарным становится градус этих требований, в других – методы сопротивления им. Мне всегда казалось, что основой западных демократий являются совершенно несвойственные советским людям уважение к чужому мнению и общим ценностям. Но, похоже, сегодня миру больше угрожает не глобальное потепление, а глобальная советизация.
Намедни известный писатель и бывший работник британской госбезопасности Джон Ле Карре в интервью газете «Эль Паис» возмущался Брекзитом: «Созвать референдум в Соединенном Королевстве, государстве с парламентской демократией, – это абсурд. Проведем референдум о смертной казни и начнем вешать людей на улицах? Основа парламентской демократии заключается в том, что мы выбираем специально подготовленных людей, которые представляют отдельные округа. Что с нами произошло, что произошло со сдержанными, достойными и прагматичными людьми?»
С одной стороны, это выглядит очень смешно в контексте хваленых британских свобод. С другой – вполне разумно. На той неделе в Лондоне благополучно разогнали и запретили демонстрации экологических активистов, арестовав почти полторы тысячи человек. Как видим, представление «цивилизованных государств» о демократии далеко от протестной фразеологии типа «мы здесь власть». Но, в конце концов, представления о народовластии могут разниться и у разных представителей демократического общества – соблюдать законы это не мешает.
Нам всем нужна свобода друг от друга. При этом мне очень не хочется, чтобы свобода была узурпирована какой-либо группой либералов или патриотов со своими партийными представлениями о свободе. Наш нынешний режим далек от идеалов и тех, и других: именно в этом мне видится его главное достоинство. К сожалению, все видят в этом скорее его недостатки. Американский сатанист Антон ЛаВей изрек: «Добро – это то, что нравится вам, а Зло – то, что вам не нравится».
Представления ангажированной публики о том, что такое хорошо и что такое плохо, довольно точно этой максиме соответствуют. «Самое горячее место в аду уготовано тем, кто остается нейтральным во времена большого морального конфликта», – заявлял Мартин Лютер Кинг. «Ад – это другие», – утверждал персонаж написанной в 1943 году пьесы Сартра «За закрытыми дверями». Мне кажется, единственный критерий вменяемости – способность отличать систему ценностей от политических убеждений.
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Свобода – умение не приспосабливать свои ценности к интересам своей референтной группы. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы.
Еще 20 лет назад Пелевин душераздирающе точно иронизировал: «Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы CС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии».
Двадцать лет спустя, когда о прелестях майдана начали вещать на наших глазах недавние борцы с «оранжевой угрозой», от этого по-прежнему смешно и тошно. За что хвататься? За «скрепы»? Вот уж над чем не посмеялся только ленивый. Хотя, если процитировать первоисточник, получается не слишком забавно: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».
Мы привыкли говорить о свободе, не очень понимая – что, кому и о чем мы говорим. И кому, кроме наших единомышленников, нужна свобода, которую мы проповедуем? «А нас-то за шо?» – смеемся мы, когда кто-то другой напарывается на то, за что боролся. Можно считать себя лучше и чище своих оппонентов, но этим мы не будем отличаться от них.
Мы росли с романтикой свободы, на издыхании советской власти распевая Окуджаву, который знал что-то лучше и больше нас:
Свобода бить посуду, не спать всю ночь свобода.
Свобода выбрать поезд и презирать коней.
Нас с детства обделила иронией природа:
Есть высшая свобода, и мы идем за ней!
24 октября 2019
ТРАГЕДИЮ СТЫДНО ПРЕВРАЩАТЬ В ФАРС
Представления о добре и зле у людей бывают совершенно противоположными: что для русского здорово, то для немца – карачун. Интересно, как добро и зло превращаются в крапленые карты, а ценности становятся разменной монетой. Прогрессивная интеллигенция вопрошает: добро ли то, что побеждает зло? Типа, в Великой Отечественной, которую лучше называть Второй мировой, одно чудовище победило другое. Хотя в союзниках у этого чудовища были силы такого явного добра, что по-хорошему им и надо скромно отдать лавры победителей. Мы-то на своих танках принесли в свободные страны одно сплошное зло, которое до нас там и не ночевало, и теперь должны только каяться.
Эти манипуляции омерзительны вовсе не оттого, что Сталин кажется мне выдающимся гуманистом. Мне и куда более симпатичный Черчилль таковым не кажется. Победа обошлась нам в двадцать с лишним миллионов жизней, а либеральные пропагандисты, вслед за мехлисами, будут называть ее сталинской? Большевики на 20 лет лишили народ праздника Победы, а «люди со светлыми лицами» будут использовать это как аргумент против ее празднования сегодня? Для них, в точности как для отъявленных сталинистов, кто за Родину – тот за Сталина? И ведь это не игра слов, а абсурд, которого они в своем идеологическом угаре, кажется, и не осознают.
«Поучиться премудрости памяти нам, русским, как и 300 лет назад („культурная память“ школьного учебника помнит ли еще об этом?) стоит у немцев (например, у Алейды Ассман, чей текст „Забвение истории – одержимость историей“ недавно издали в Москве). Это не те немцы, победу над которыми мы, типа, одерживаем каждое 9 мая: они стали другими, потратив на это лет 40 упорного и безжалостного к себе труда. Зато они есть, а нас, строго говоря, нет», – пишет Леонид Никитинский как раз в тот неловкий момент, когда Всемирный еврейский конгресс публикует результаты опроса, по результатам которого четверть немцев придерживается антисемитских взглядов, а более 40 процентов считает, что евреи слишком много говорят о Холокосте.
Осмелюсь предположить, что и русские не стали другими. Фашизм они ненавидят так же, и это неудивительно, когда бесхитростная память напоминает о крови, пролитой за свободу от него почти каждой семьей. Странно, что никому из приличных людей еще не приходит в голову сокрушаться о победе над смертью, которую христиане одерживают каждую Пасху. Возможно, все впереди. В той же статье, посвященной прекрасному «Возвращению имен» у Соловецкого камня, Никитинский развивает свою мысль: «если исходить из того, что мы – нация, то у нас шизофрения. У России две памяти, столкнувшиеся на Лубянке: условные 14 процентов помнят одно, а 86 – ничего не помнят, кроме того, что им вчера рассказали по телевизору».
Если бы этот текст, в моем представлении достойный пера кого-то значительно менее умного и порядочного, был опубликован в Фейсбуке, я бы предположил, что блог автора взломали. Но идеология творит с людьми истинные чудеса. У меня нет никаких сомнений, что Никитинский писал это не за грант и не по «методичке». Я вообще не склонен переоценивать подобную карикатурную мотивацию там, где речь идет о «партийности». В том обкоме так видят, там в это свято верят. Меня это пугает больше всего: «Бессмертный полк» не помнит ничего, а «Бессмертный ГУЛАГ» помнит всё. Разделяй и властвуй над умами. Их уникального коллектива коллективная ответственность, разумеется, не касается.
Оказывается, можно одновременно проклинать Путина за то, что он раскалывает общество, и тем же русским языком гордиться, что не принадлежишь к убогому народу, которым движет только ресентимент («откуда тогда в культурной памяти большинства это чувство лузеров, вечно побежденных? (…) Все эти мы, мерзнущие в очереди к Соловецкому камню, эти вечные иностранные агенты, безродные космополиты, мы ведь не чувствуем себя побежденными? Отнюдь. Наша память существует и не болит, а у них на ее месте плакат – но болит»). Вот уж действительно, самоуничижение паче гордости. Надеюсь, что большинство людей, выстроившихся в очереди к Соловецкому камню, приходит оплакать невинных жертв, а не продемонстрировать себя успешными победителями советского Дракона, у которых давно ничего не болит. Трагедию стыдно превращать в фарс.
Забавно, что в XIX веке прогрессивная русская интеллигенция культивировала чувство собственной вины перед народом, а в XXI – исключительно чувство вины народа перед собой. Боюсь, ресентиментом называется именно это. Передо мной мой народ ни в чем не виноват, а чем он провинился перед прекрасными людьми, которые вместо спецовок носят белые одежды? Тем, что думает не так, как они? Что хочет гордиться своей страной? Что помнит не только свинцовые мерзости русской жизни? Что голосовал не так, как им хотелось бы? На это тоже есть свои причины: забвение недавней истории народу уж точно не свойственно, он хорошо помнит, как ему жилось, когда всем довольны были сливки общества, отчего-то называемые «демократами».
У меня, к примеру, в девяностых тоже было все в порядке, жаловаться грех. Но мне почему-то не приходит в голову считать, что весь народ катался как сыр в масле, и я, худо-бедно вписавшийся в рынок СМИ, мог быть для него примером. Я поддерживал Ельцина, хотя хорошо понимаю цену, заплаченную за его царство. А вот как называются люди, которые помнят только то, что им выгодно помнить, а то, что невыгодно, якобы не помнят? Ситуативными манкуртами? Если, защищая подходящий им режим, они радуются расстрелу парламента, переписыванию Конституции и фарсовым президентским выборам, почему они недовольны тем, что плоды их побед пожинают другие? Если вы подписывались под этими правилами игры, неча пенять на тех, кто ими воспользовался. Это и называется сменяемостью власти.
2 ноября 2019
МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и социологические опросы. Один из самых известных парадоксов квантовой физики – корпускулярно-волновой дуализм: в зависимости от того, находятся ли электроны под наблюдением, они ведут себя или как волна, или как частица. Это и называется эффектом наблюдателя. В принципе, ничего удивительного: люди тоже ведут себя по-разному – скажем, в зависимости от того, наблюдает за ними полицейский, или нет. «Мы должны помнить: то, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов»,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.