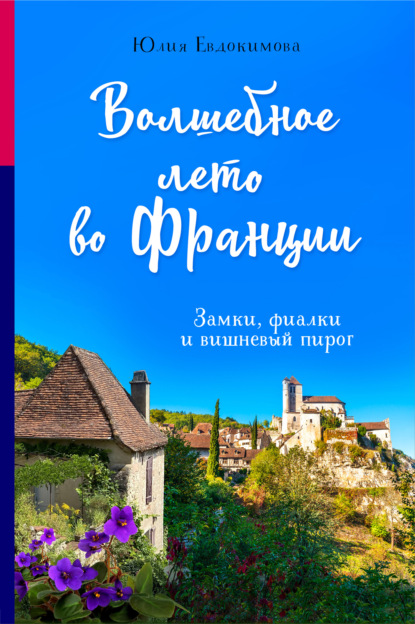Красный Затон: Пробуждение

- -
- 100%
- +
Окно третье: первичный отчёт судмедэксперта Ивановой Л.П., только что поступивший в систему. Вот где мир дал первую, глубокую трещину. Текст был сух, точен, безэмоционален, как скальпель. До определённого места.
Морозов прокрутил вниз, мимо стандартных граф: давность смерти, отсутствие видимых повреждений, неустановленная причина. Его взгляд зацепился за раздел «Дополнительные наблюдения». Почерк здесь, казалось, дрогнул, стал менее уверенным, буквы чуть съезжали в сторону, будто рука писавшего непроизвольно отшатнулась.
«…в образцах дермы и подкожной клетчатки обоих тел, а также в образцах, взятых с металлических элементов конструкции на месте происшествия, обнаружены включения нитевидных образований. Микроскопия: структура напоминает гифы грибного мицелия, однако демонстрирует аномальную толщину и механическую прочность, несвойственную биологическим тканям. Элементный анализ выявил в составе волокон повышенное содержание железа (Fe), меди (Cu) и марганца (Mn). Концентрация металлов на порядки превышает фоновое содержание в окружающих почвах. Гипотеза: процесс интенсивного бионакопления тяжёлых металлов из загрязнённого грунта с формированием проводящих органико-минеральных структур. Требует консультации с микологом и геохимиком. Явление не описано в доступной литературе».
Морозов перечитал абзац. Затем ещё раз. Его мозг, отточенный на раскрутке человеческих мотивов – жадности, мести, страха – наткнулся на глухую стену. Здесь не было мотива. Здесь был процесс. «Проводящие органико-минеральные структуры». Фраза звенела в памяти, отдаваясь ледяным эхом. Он открыл сканы блокнота, нашёл страницу с заголовком «Металлургия плоти». Там, среди каракулей, стояло: «Металлы – не загрязнители. Они – синапсы. Артерии. Сеть использует доступные проводники. Железо – для силы. Медь – для сигнала. Мы лишь улучшаем среду, подготавливаем субстрат».
Совпадение терминов било по нервам тонкой, ледяной иглой. Это была точка, где бредовая парадигма Судакова касалась холодной, стерильной реальности экспертизы Ивановой. Два безумия – одно горячее, другое ледяное – сходились в одной точке. В котловане. В тех самых белёсых, пульсирующих нитях, что он видел на стене. Это были не нити. Это были провода. Живые провода, как и писал Судаков.
В дверь постучали резко, двумя отрывистыми ударами, и вошёл Лыков, не дожидаясь ответа. В руках он нёс два бумажных стаканчика, от которых тянуло паром и дешёвой горечью растворимого кофе. Запах на мгновение перебил призрачный, въевшийся в одежду Морозова шлейф котлована.
– Читаешь сказки про металлические грибочки? – хмыкнул он, ставя стаканчик на край стола, подальше от стопок бумаг. Лицо капитана всё ещё было серым, как пепел, от утренней встречи с котлованом, но в глазах твёрдо горел знакомый, натренированный цинизм – его главная и последняя линия обороны. – Наша Иванова всегда любила покопаться в микроскопе. Написала бы «плесень» и делу конец. А то развела тут науку. Напугала сама себя. Я такое уже видел после аварии на химкомбинате в девяностых. Массовая истерия. Люди тогда чертей в лужах видели.
– Плесень не накапливает медь в таких концентрациях, – автоматически ответил Морозов, не отрывая взгляда от экрана. Голос прозвучал глухо, отстранённо, как будто из другого помещения. – И не искривляет суставы у трупов в анатомически невозможные позы. Это не химия, Сергей Петрович. Это… биология. Какая-то другая.
– Значит, не плесень, а какая-нибудь дрянь из старой шахты, мутант, – отмахнулся Лыков, отхлёбывая кофе и садясь на край стола. Его вес заставил дерево слегка, жалобно скрипнуть. – Там же, под Затоном, весь менделеев зарыт. Ртуть, свинец, бог знает что ещё. Почва отравлена, вот и растёт всякое. – Он помолчал, глядя, как Морозов листает на экране сканы, его пальцы замерли над клавиатурой. – Кстати, пока ты тут с грибами, я кое-что по твоему Судакову нарыл. После увольнения из изыскательной партии он подрабатывал в архиве горуправления архитектуры. Консультантом. Копался в старых чертежах, как крот.
Морозов наконец поднял на него глаза. Взгляд был остекленевшим от усталости, но за этой плёнкой бурила холодная, цепкая мысль.
– В каких чертежах?
– Во всех, что касаются подземки. Особенно его интересовали коммуникации завода «Красный Молот» и всё, что вокруг. Ливневые коллекторы, технологические тоннели, бомбоубежища. Заказывал копии, делал пометки. Видимо, пытался составить свою карту.
– Карту чего? – спросил Морозов, но вопрос был риторическим. Он уже видел эту карту в блокноте. Паутину линий, сходящихся к узлам, к точкам «активации». Котлован К-7 был лишь одним из них. Самый свежий. Самый явный.
Лыков пожал плечами, и в его жесте была вся усталость мира, вся горечь человека, который слишком много видел, чтобы верить в сложные объяснения.
– Карту, где можно спрятать трупы. Или устроить шабаш для таких же, как он. Не усложняй, Артём. Не строй конспирологии. У тебя есть живые свидетели. Те таджики. Один в шоке, второй… что с ним?
Морозов щёлкнул мышью, вызвав на экран справку. Фархад Ибрагимов дал первичные показания: сухо, чётко, по пунктам. Слишком стерильно, слишком гладко для человека, нашедшего ад на земле. Рашид Каримов находился в частной клинике «Здоровье+», врачи диагностировали острую реакцию на стресс, допрос не рекомендован.
– Ибрагимов формально чист. Каримов – пока вне доступа.
– Вот и займись Ибрагимовым. Вызови его снова. Завтра же. Надави. Мигранты, они всегда что-то да утаивают. Боятся, путаются. Может, сами к этому причастны, а теперь трясутся. Изучи его связи, круг общения. – Лыков допил кофе, смял стаканчик и метким броском отправил его в корзину у двери. Попал. Звук смятой бумаги громко прозвучал в тишине. – А я пойду готовить почву для прессы и прокуратуры. «Трагическая гибель двух бездомных в результате несчастного случая на заброшенной территории». Без подробностей, без «деревьев» и «гиф». Чисто, быстро и в статистику. И всем спокойнее.
После его ухода в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь навязчивым гулом компьютера и тиканьем настенных часов, отсчитывающих секунды до неизвестного чего. Морозов встал, кости похрустели. Он подошёл к карте района. Красный Затон распластывался на стене, как больной организм под рентгеном. Верхний слой – спальные районы, уродливые коробки. Средний – промзона, шрамы цехов и пустыри. И нижний, невидимый, таящийся под асфальтом и фундаментами, – лабиринт коллекторов, затопленных тоннелей, забытых бункеров. И что-то ещё. Что-то, что, согласно отчёту, росло. Накапливало металлы. Формировало сети.
Он взял со стола красный перманентный маркер и на карте, прямо на месте котлована в секторе 7-Г, поставил небольшую, но яркую, как капля крови, точку. Узел К-7. Активирован.
Затем вернулся к столу, открыл нижний ящик и, нарушая все протоколы, достал оттуда блокнот Судакова в пакете с вещдоками. Полиэтилен шелестел в тишине, как крылья большой, ночной моли. Он положил его рядом с клавиатурой, открыл на странице, помеченной знаком бесконечности. «Этап 2: Прорастание. Симптомы: микотический рост в зданиях, насыщенных влагой и отчаянием. Шёпот в трубах. Сны о корнях. Они будут думать, что это галлюцинации. Это не галлюцинации. Это периферийная нервная система входит в контакт с примитивными рецепторами. Субъекты чувствуют зов, но не понимают его. Как рыба не понимает воду».
Морозов откинулся на стуле, сжав переносицу большим и указательным пальцами. Головная боль, тупая и навязчивая, стучала в висках с самого утра. Он списал её на недосып, на холод, на кофе. На котлован. Но теперь, в тишине кабинета, она казалась иной – не внутренней, а внешней, давящей, как перемена атмосферного давления перед грозой.
Просидев так ещё с полчаса, он собрался уходить. Взял реглан, потушил настольную лампу. И в полумраке кабинета, в синеватом свете, падающем с монитора в спящем режиме, его взгляд упал на подоконник.
Один из фикусов, тот, что стоял ближе всего к вечно горячему, сушащему воздух радиатору, выглядел не просто нездоровым. Он выглядел осквернённым. Несколько листьев, обычно тёмно-зелёных и кожистых, обвисли, пожелтели по краям, и на их поверхности проступили странные, ржаво-коричневые пятна, похожие на карту незнакомого, болотистого архипелага. Но самое странное, самое невозможное было у основания стебля. На поверхности грунта, у самого края пластикового горшка, лежала небольшая, влажно поблёскивающая в тусклом свете клякса чего-то чёрного и густого.
Морозов медленно, будто сквозь воду, подошёл. Это не была земля и не пересохшая грязь. Это была слизь, густая, как патока, почти желеобразная. И от неё, слабым, но отчётливым шлейфом, тянулся запах. Сладковатый. Гнилостный. С оттенком окисленной меди и старого, запёкшегося мёда. Тот самый, въевшийся в память запах из котлована. Он принёс его с собой. На подошвах. На одежде. И он прижился.
Он замер, не дыша. В ушах зазвенела тишина, ставшая вдруг абсолютной, вакуумной. Головная боль внезапно усилилась, сменив характер – теперь она пульсировала не в висках, а где-то глубоко в лицевых костях, в носовых пазухах, отдаваясь странной, металлической нотой на задней стенке горла. Как будто череп отзывался на этот запах, на эту чёрную, живую каплю в горшке с увядающим фикусом.
Морозов выпрямился, медленно, почти церемониально застёгивая реглан на все пуговицы, сверху донизу. Его лицо в полутьме было каменной маской, но внутри всё кричало одним-единственным, ясным и леденящим осознанием.
Бумажная реальность рапортов, протоколов и статистики дала не трещину. Она дала пробоину. И через эту пробоину, тихо, настойчиво, начало просачиваться нечто иное. Нечто, что пахло гниющим мёдом, окисленной медью и землёй, которая не забывает и не прощает. Нечто, что уже было здесь. В его кабинете. В его горшке.
Он вышел из кабинета, щёлкнув выключателем. Свет погас, оставив фикус с чёрной кляксой в растущих, непроглядных сумерках. Дверь закрылась с тихим, но окончательным щелчком замка.
В горшке, во влажной, отравленной земле, что-то слабо, почти неощутимо, шевельнулось. Будто вздохнуло.
Глава 1.2: Шёпот в трубах
Утро в Красном Затоне не наступало – оно просачивалось сквозь плотную, молочную пелену тумана, превращая мир в размытую акварель серых, грязно-охристых и уныло-зелёных тонов. Туман стелился по пустырям, заползал в разбитые окна гаражей, цеплялся за колючую проволоку заборов, словно пытаясь скрыть, затянуть шрамы промзоны. Воздух был неподвижным, тяжёлым, насквозь пропитанным влагой, словно весь район дышал одной гигантской, заплесневелой губкой. Дышать им было всё равно что пить холодный, затхлый бульон.
Пятиэтажка на Индустриальной, 17, стояла напротив котлована, через дорогу и покосившийся забор из профлиста. Из кухни на третьем этаже открывался идеальный, почти театральный вид на место происшествия: жёлтая полицейская лента, будка охраны, крыша «Урала» с одиноким, выключенным прожектором, смотрящим в небо, как слепой, затуманенный глаз. Василий Семёныч Крутов не стал ждать, когда к нему явятся с вопросами. Он сам позвонил в отделение на рассвете, и его голос в трубке звучал не как просьба, а как констатация, как приговор: «Вы там, в яме, копались. Приезжайте. Объясню, на что наткнулись. Пока не поздно».
Квартира встретила Морозова запахом другой, законсервированной эпохи: старого паркета, натёртого воском, тушёной капусты с тмином, лаврового листа и неподвижной пыли на книгах в серванте. Всё здесь было обжито, отполировано временем до состояния музейного экспоната: тот самый сервант с немыслимым, тяжёлым хрусталём, ковёр на стене с оленями, уходящими в багровый закат, массивный телевизор «Электрон», похожий на саркофаг забытого фараона. Василий Семёныч сидел на кухне у стола, покрытого клеёнкой с выцветшим, унылым узором. На нём была расстёгнутая телогрейка поверх тельняшки, выгоревшей до блёкло-голубого. Его руки, покрытые паутиной старых ожогов и шрамов цвета старого, потускневшего серебра, лежали на столе ладонями вниз – два тяжёлых, отслуживших свой срок инструмента, хранящих память о каждом ударе молота, каждой искре.
– Садитесь, – буркнул он, не глядя, кивнув на стул. – Чай? Самовар, не пакетик.
– Спасибо, не надо, – Морозов остался стоять у порога, блокнот в руке. Форма в этой капсуле прошлого казалась инородным телом, грубым вторжением. – Вы сказали, можете объяснить.
– Объяснить? – Старик усмехнулся беззвучно, лишь скривив беззубый рот в гримасу, которую трудно было назвать улыбкой. – Я могу рассказать. Поймёте вы или нет – ваше дело. Молоды вы ещё, чтоб такое понимать. Вам всё в цифрах подавай, в бумажках. – Он мотнул головой в сторону окна, за которым клубился туман, скрывая котлован. – Видите вон ту яму? Это не яма. Это рана. Свежая. А под ней – старая, зарубцевавшаяся. Глупая.
Он сделал паузу, его глаза, мутные, покрытые белёсой пеленой катаракты, смотрели не на Морозова, а сквозь него, в какую-то точку в прошлом, столь же реальную для него, как стол перед ним.
– Под ней, метрах в двадцати, был тоннель. Не питерская «промка», конечно, но солидный. Для транспортировки горячих заготовок из прокатного в литейный цех. Шириной с вашу машину, высотой – в два человеческих роста. Бетон, арматура, всё как полагается. В восемьдесят третьем, двенадцатого апреля, это было… пол в литейке №3 провалился. Прямо под печью номер семь. «Семиха», мы её звали. – Он отхлебнул из гранёного стакана в потемневшем подстаканнике, поставил его со стуком, будто ставя точку. – Пятеро мужиков. Молодых ещё. Самому старшему – Ваське Коновалову – тридцать было. – Голос его стал тише, хриплее, прорезанным пеплом. – Не просто провалились. Ушли. Земля их… приняла. Не сразу. Сначала гудело. Не так, как техника гудит. Иначе. Низко, где-то в животе, в самых костях. Стон. Как будто сама планета на что-то жалуется. Потом – хруст. Не обвал, а… хруст, будто ломают спину огромному, спящему зверю. И тишина. Такая тишина, что в ушах звенело. Мы их даже не откопали. Комиссия приехала, начальство, сказали – геопрогар, карстовая пустота. Опасность обрушения. Засыпали всё той же землёй, залили бетоном, цех перенесли на сто метров. – Он наконец посмотрел на Морозова, и в его взгляде была тяжесть целой жизни, прожитой в тени этой невысказанной тайны. – А теперь вы пришли, эти… «новые хозяева жизни». С вашими сваями и кранами. И начали вбивать. Не там, где мы залили. Рядом. Но земля-то цельная. Она помнит. Она всё помнит. Она не прощает.
– Вы считаете, что строители вскрыли ту самую пустоту? – уточнил Морозов, делая пометку в блокноте. Его рука двигалась автоматически, пока мозг пытался отделить факт от мифа. Но внутри уже щёлкал холодный, логический затвор. Гул. Стон земли. Старик описывал его на языке страха и суеверий. Судаков измерил его и дал имя – 7.8 Гц. Резонанс Шумана. Два языка – миф и наука – описывали одно и то же явление. Они говорили об одном и том же. На разных языках безумия и науки.
– Пустоту? – Василий Семёныч фыркнул, и звук этот был похож на лопнувший в грязи пузырь. – Там не пустота. Там оно. Оно всегда там спало. Под нашими цехами, под стружкой, под потом, под криками «Давай!». Мы шумели, гремели, лили чугун, но не будили. Мы были… шумом на поверхности. А вы… вы железом в самое нутро полезли. Разворошили старую рану. И оно теперь просыпается. Слышите?
Морозов насторожился, прислушался. В квартире было тихо, лишь тикали старые часы с кукушкой в соседней комнате, отсчитывая время, которого у старика осталось больше, чем у него.
– Слышите что?
– Гул. Стон. – Старик медленно, с усилием, будто преодолевая боль, поднял свою корявую ладонь и приложил её к голой кирпичной стене, отделявшей кухню от ванной. Его пальцы растопырились, впились в штукатурку, как корни в трещину скалы. – По трубам идёт. По всему дому. Не постоянно. Ночью, когда тихо. Как сердцебиение. Только очень-очень медленное. Раз в минуту, а то и реже. И… шёпот.
– Шёпот? – Морозов почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не от страха суеверий, а от странного, почти клинического интереса. Симптом. Ещё один симптом.
– Не слова. Не наш язык. Шуршание. Как корни в земле шевелятся. Или… черви. Много червей. – Василий Семёныч убрал руку, оставив на пыльной стене влажный, чёткий отпечаток. – Вы молодой. Умный, наверное. Не верите. Думаете, старый маразматик, душок от него несёт бредовый. – Он встал, его кости хрустнули, как сухие сучья. – Но сходите в подвал. Только не один. И фонарь возьмите покрепче. И смотрите не только под ноги.
Рассказ старика был идеальным городским фольклором: техногенная катастрофа, облечённая в мистические одежды, обраставшая за сорок лет деталями, как старый корабль ракушками. Рациональное зерно – провал грунта в 83-м – тонуло в иррациональном иле. Но упоминание гула… Оно отзывалось эхом в памяти. И теперь этот эхо локализовался здесь, в этом доме, в его стенах.
Подвал.
Лестница вниз была узкой, бетонной, пахнущей вечной, костной сыростью, кошачьей мочой и чем-то ещё – сладковатым и затхлым, как погреб со сгнившей до состояния чёрной жижи картошкой. Единственная лампочка под потолком давно превратилась в груду тёмного стекла. Свет тактического фонаря Морозова, яркий и безжалостный, как луч прожектора в тюремном дворе, выхватывал из мрака сюрреалистичные картины: груды хлама, похожие на курганы неизвестной цивилизации, старые покрышки, облупившиеся трубы, покрытые каплями конденсата, блестевшими, как слёзы.
И плесень. Её было неестественно много. Это не были безобидные зеленоватые или чёрные пятна. Это были маслянистые, влажные наросты цвета запёкшейся крови и гниющей печени. Они расходились по стенам и потолку веером, как кровоизлияния на рентгеновском снимке, образуя сложные, ветвящиеся узоры. Они казались рельефными, жирными, и в дрожащем свете фонаря на секунду возникала иллюзия, что они пульсируют.
В дальнем углу, у разбитого корыта, сидела на корточках молодая женщина в синем рабочем халате и резиновых перчатках до локтей. Она что-то оттирала щёткой, но замерла, услышав шаги, превратившись в статую испуга. Увидев полицейскую форму, она испуганно вскочила, как пойманный зайчонок, задев ведро. Вода с хлюпом расплескалась по полу, смешавшись с грязью.
– Я… я убираю, – заговорила она быстро, сбивчиво, с сильным, певучим центральноазиатским акцентом. Глаза, огромные и тёмные, были широко раскрыты. – Разрешение есть. Меня Марина зовут. Я из «Затон-Сервиса». Я ничего не брала! Ничего!
– Всё в порядке, – Морозов показал удостоверение, но не стал приближаться, оставаясь в арке прохода, на расстоянии. – Полиция. Проверяем жалобы на состояние подвалов. На сырость. На неисправности.
Лицо Марины исказилось сначала непониманием, а затем новым, более глубоким, животным страхом. Страхом не перед начальством или полицией, а перед чем-то иным, не имеющим названия.
– Жалобы? Нет, нет жалоб. Всё чисто. Я хорошо работаю, – она заломила руки в перчатках, будто пытаясь стереть с них невидимую грязь. – Пожалуйста, не сообщайте в компанию. Мне нельзя терять работу.
– Я не из управляющей компании, – уточнил Морозов, стараясь говорить максимально спокойно, почти бесцветно, как врач. – Меня интересуют… необычные вещи. Запахи. Шумы. То, что не вписывается. То, что пугает.
Она метнула взгляд в чёрный провал за своей спиной – низкую, полуразрушенную дверь в технический отсек, откуда тянулись трубы и слышалось мерное, назойливое капанье, отсчитывающее секунды. Потом, понизив голос до шёпота, в котором звенела неподдельная, детская дрожь, сказала:
– Здесь… не просто грязь. Там, в той комнате… я видела. Не людей. Тени. Длинные, тонкие. Как… как корни на стене. Но они движутся. Когда свет выключен, и я только с фонариком в телефоне. Они тянутся. От труб. К стенам. Как будто ищут что-то. А ещё… эта плесень. Она растёт. За ночь. Я вчера мелом отметила край пятна на стене. Сегодня утром оно было на два пальца дальше. И капли на трубах… они не просто капают. Они собираются в узоры, как буквы. Только кривые, непонятные.
– Что вы слышали? – спросил Морозов, и его собственный голос в подвальной, давящей тишине прозвучал неожиданно громко, почти кощунственно.
– Шуршание. Как… как когда землю роют. Мой отец в саду копал, перед тем как его хватило. Вот такой звук. Лопата о камни, о глину. – Она замолчала, проглотив комок в горле. – И запах. – Она сморщилась, будто от физической боли. – Как в детстве, когда в арыке вода стоячая портится. Тяжёлый, сладкий. От него голова болит, и во рту… металлом становится. Я больше одна не спускаюсь. Только днём, и то читаю молитву, которую бабушка научила. От дурного глаза. От джиннов.
Морозов кивнул, поблагодарил и, к её видимому, почти физическому облегчению, двинулся к тому самому отсеку. Дверь, когда он толкнул её плечом, издала протяжный, мучительный скрип ржавых петель, будто её никогда не открывали, будто она сопротивлялась.
Внутри было тесно, душно и темно, как в грудной клетке каменного великана. Переплетение труб разного диаметра, вентили, покрытые бородами ржавчины, счётчики. И запах. Тот самый, но здесь он был сконцентрирован, упакован, почти осязаем, вися в воздухе тяжёлым, ядовитым одеялом. Он исходил от толстой, чешуйчатой чугунной трубы, идущей в пол. На резьбовом соединении, у самого пола, висела и росла, наливаясь, капля странной жидкости. Она была не прозрачной, а мутной, желтовато-коричневой, с радужной плёнкой на поверхности, переливающейся ядовитыми цветами – точно такая же плёнка, как на лужах в котловане, только здесь, в миниатюре, словно фрактальный отпечаток большого ужаса.
Морозов достал из кармана маленькую стеклянную бутылку из-под минералки, которую предварительно стерилизовал. Он наклонился, подставил горлышко. Капля, тяжёлая и вязкая, как сироп, сорвалась и упала внутрь с глухим, нездоровым булькающим звуком. Он набрал около трети бутылки этой «мёртвой воды», закрутил крышку до упора. Жидкость внутри выглядела отталкивающе живой.
Перед уходом он направил луч фонаря на стену за трубами. Плесень здесь образовывала не просто пятна. Она струилась по швам между бетонными плитами, образуя сложный, ветвящийся узор, похожий на схему кровеносной системы или на карту метро с одной-единственной, тупиковой станцией. Узор тянулся вниз, к полу, и уходил в щель между плитой и фундаментом, туда, откуда шёл запах. Почти как в котловане. Только миниатюрное. Только начинающее. Периферийная нервная система, как писал Судаков.
Кабинет. Вечер.
Вернувшись, он поставил бутылку с пробой на подоконник, рядом с заболевшим фикусом, который выглядел ещё хуже – листья почернели по краям, будто обуглились. Отвлёкся на рутину: вызов Фархада Ибрагимова на повторный допрос (назначил на завтра, 10:00), формальный отчёт о поиске родственников неопознанной женщины (ноль результатов), просмотр камер наблюдения вокруг котлована (ничего, лишь клубящийся туман и одинокие фары, прорезающие мрак).
Только ближе к вечеру, когда серый свет за окном окончательно потемнел до густой, чернильной черноты, он снова обратил внимание на бутылку.
За несколько часов содержимое претерпело странные, тревожные изменения.
Мутная жидкость отстоялась. На дне скопился слой тёмного, почти чёрного осадка, похожего на мелкий гравий или спрессованный ил. Но самое странное было на поверхности. Образовалась тончайшая, но невероятно прочная, эластичная радужная плёнка. Она переливалась всеми цветами нефтяной лужи – ядовито-синим, болотным зелёным, грязно-багровым. Морозов осторожно взял бутылку и покрутил её. Плёнка не рвалась и не смешивалась с жидкостью, а лишь колыхалась, упруго сопротивляясь движению, демонстрируя странную, неньютоновскую плотность. Это не была обычная органика. Это выглядело как искусственно выращенная биоплёнка, идеальная мембрана для чего-то.
Он вспомнил запись из блокнота Судакова, которую читал утром: «Вода – не просто среда. Это кровь и лимфа Сети. Она переносит сигналы и строительный материал. “Мёртвая вода” из старых труб – это не загрязнение. Это признак работы периферической системы. Фильтрация и сбор ресурсов идёт на молекулярном уровне».
Морозов отвинтил крышку и осторожно, не вдыхая полной грудью, поднёс горлышко к носу. Запах ударил в обонятельные рецепторы – концентрированная, упакованная в бутылку версия подвала: гниль, влажная глина, и под этим – сладковатый, химический оттенок, напоминающий формалин и пережжённую изоляцию. Тот самый запах, что теперь жил в его кабинете, у корней фикуса.
Головная боль, притихшая за день, вернулась с новой, отточенной силой. Тупая пульсация в висках слилась с резью в глубине глазниц, с лёгкой тошнотой под ложечкой. Он закрыл бутылку, убрал её в нижний, запирающийся на ключ ящик стола. Вещдок. Непонятный, аномальный, но вещдок. Пока единственный материальный след, связывающий бред старика, страх уборщицы и цифры в блокноте.
На улице давно стемнело. Огни «человейников» зажглись жёлтыми, размытыми точками в пелене дождя, сменившего туман. Морозов собрался уходить, потушил настольную лампу, погрузив кабинет в синеватый, призрачный полумрак от уличного фонаря.