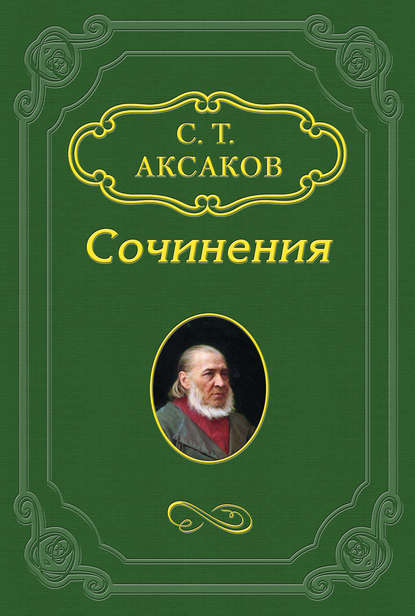Красный Затон: Пробуждение

- -
- 100%
- +
На экране теперь – только отражение в луже. Искажённое, рябящее от мелкой дрожи, но узнаваемое: тёмный прямоугольник провала, силуэт собаки, отскакивающей в сторону с визгом, полным чистого ужаса.
И шаги. Тяжёлые, неторопливые, уверенные шаги по грязи. Они приближаются к луже, к лежащему телефону. Не спеша. Будто знают, что времени много.
Морозов нажал паузу. Его пальцы похолодели даже в перчатках. В комнате стало тихо, лишь процессор ноутбука издавал едва слышный высокий писк.
Он прокрутил момент с шагами несколько раз. Блик? Дефект объектива от удара? Двойная экспозиция? Его профессиональный скепсис лихорадочно искал рациональный крючок, за который можно было бы зацепиться, чтобы не сорваться в пропасть. Он прокрутил на полсекунды назад. В момент, когда шаги были ближе всего, а отражение – чуть чётче.
В луже, в мутном, дрожащем зеркале, было видно две фигуры.
Первая – в длинном, тёмном, почти до пят плаще, края которого сливаются с грязью. Плащ не современный, а какой-то драповый, старомодного покроя. Из-под нависшего капюшона – не лицо, а тёмное, неразличимое пятно. Но силуэт, осанка, манера держать голову… Морозов мысленно наложил его на описание и фото Судакова из дела. Совпадение? Возможно. Но этот плащ совпадал с описанием одежды, в которой нашли тело геолога. Мёртвый человек, стоящий в отражении.
Вторая фигура стояла чуть сзади и слева. Коренастая, плотная, в рабочей телогрейке и потрёпанной шапке-ушанке. Лицо в отражении было расплывчатым, но профиль, очертание скулы и подбородка… Морозов быстро открыл на ноутбуке базу данных. Фото Игната Валерьевича Родионова, 52 года, бывшего слесаря-ремонтника «Красного Молота», активиста местного общества «Память Завода». Человек, известный яростными, но тщетными конфликтами с застройщиками, митингами у проходной. Его фото, сделанное на одном из таких митингов полгода назад, показывало тот же квадратный, обветренный подбородок, тот же характерный, тяжёлый изгиб брови. Профиль, отражённый в грязной луже, был его зеркальным двойником.
Морозов заставил себя дышать ровно, глубоко. Сердце колотилось где-то в горле. Он прокрутил запись дальше, включив звук на максимум.
После паузы – движение. Чья-то крупная рука в грубой, промасленной перчатке накрывает камеру, погружая экран в темноту. Слышен приглушённый, сиплый, старческий голос (точно не Кирилла): «…живой ещё. Чистый. Унесём». Другой голос, более молодой, отдалённый, словно доносящийся из провала: «…собака? Убежит, наведёт». Первый голос, раздражённо: «…убежала. Не важно. Она уже не та. Зов её тронул».
Затем звук шагов, удаляющихся, глухой стон или вздох (Кирилла?), и снова тишина, прерываемая лишь завыванием ветра в рёбрах развалин. Потом – снова шаги. Быстрые, лёгкие, спотыкающиеся. Камера резко поднимается, мир кувыркается. В кадре мелькает испуганное, бледное, искажённое ужасом лицо Кирилла. Он тяжело, хрипло дышит, глаза выпучены, в них читается непонимание, сбой в восприятии. Он что-то бормочет, захлёбываясь: «…не видел… никого не было… я… Рекс?» Он смотрит по сторонам, на пустой, безжизненный пустырь, на чёрный, безмолвный провал котельной, будто ища подтверждения своему безумию. Затем он резко разворачивается и бежит, камера трясётся, показывая мелькающие под ногами сорняки, обрывки мусора, а потом – треснутый асфальт двора. Запись обрывается на полуслове, на полушаге.
Морозов откинулся на стуле. В ушах стоял высокий, назойливый звон, смешиваясь с эхом тех голосов. Он пересмотрел ключевой момент ещё раз. И ещё. Выделил фрагмент с голосами, сохранил отдельным файлом. Автоматически, по привычке, запустил на нём программу для шумоподавления и анализа речи. Результат был нулевым – помехи, ветер, искажения заглушали всё. Стандартные методы разбивались о нестандартную улику.
Фигуры в отражении. Голоса, говорящие о «живом» и «зове». Абсолютно пустой, безлюдный пустырь на основном, прямом кадре.
Улика была бестелесной, призрачной. Она существовала в зеркальном мире, в искажении, в артефакте съёмки, в слепом пятне реальности. Ни один суд, ни одна графологическая или видеоэкспертиза не приняли бы это как прямое доказательство. Это можно было списать на параллакс, на игру света и тени, на галлюцинацию, вызванную паникой подростка и заразившую его собаку.
Но Морозов видел. Его мозг, тренированный годами сопоставлять разрозненные детали, уже сложил пазл. Плащ Судакова. Профиль Игната Родионова. Голоса, говорящие о похищении. Пропажа подростка в зоне активности культа, рядом с «точкой выхода», о которой писала «Дитя_Бетона».
Это не было совпадением. Это была сигнатура. Отпечаток иной реальности, проступивший только в кривом зеркале лужи, в «слепой зоне».
Он сохранил видео, сделал отдельные, увеличенные скриншоты отражения. Пометил файлы как «Орлов К.В. – Видео с МП. Аномалия отражения. Причастность: Родионов И.В. (визуальная ид.) + Н/Л (голос). Возм. использование перцептивных искажений».
Потом он открыл базу и вызвал полное досье Игната Валерьевича Родионова. «Хранитель руин». Человек, который винил во всём новых хозяев, видел в каждом котловане надругательство над памятью. Человек с мотивом мести, искажённой до фанатизма. И, судя по отражению в луже, человек, похищающий подростков. Для чего? Для «кормления»? Для «приношения»?
Морозов взял красный маркер. На карте района, уже похожей на медицинскую схему болезни, он поставил новую точку – старую котельную. Провёл жирную линию от неё к котловану. Подписал: «МП Орлов К.В. Место похищения (котельная). Причастность: Родионов И.В. (визуальная ид.) + Н/Л (возм. Судаков??). Метод: использование «слепых зон»/перцептивных аномалий. Собака-свидетель заражена/травмирована».
Он отложил маркер и потёр виски. Головная боль вернулась, на этот раз с новой, пульсирующей, сверлящей силой в левом виске, прямо за глазом. Он закрыл глаза, и перед внутренним взором снова проплыло отражение: два силуэта в грязной воде. Один – мёртвый геолог, вышедший из-под земли. Другой – живой мститель, ведущий с ней диалог.
Он открыл ящик стола, достал бутылку с «мёртвой водой». Плёнка на поверхности была ещё ярче, переливалась ядовитыми, неземными цветами. Осадок на дне потемнел, сгустился в несколько чётких, тёмных слоёв.
Мир раскалывался на два слоя, два пласта реальности. Верхний, видимый, официальный – где подростки просто пропадают в плохих районах, где плесень – это плесень, а голоса в трубах – галлюцинации от стресса. И нижний, отражённый, истинный – где в лужах видны похитители-призраки, где вода в трубах несёт споры памяти, а земля стонет от пробуждения чего-то древнего и голодного. Где культ действует в слепых пятнах восприятия.
И он, Артём Морозов, больше не мог игнорировать нижний слой. Он проваливался в него. С каждым новым доказательством, с каждым шёпотом в тишине, с каждой пульсацией боли в виске, которая, казалось, билась в такт с тем низкочастотным гулом.
Он положил телефон Кирилла обратно в пакет, запечатал его скотчем. Вещдок. Самый ценный и самый бесполезный, непригодный для суда вещдок в его практике. Улика, которая существовала только для него.
За окном сгущались синие, холодные сумерки. Огни «человейников» зажигались один за другим, жёлтые, безжизненные точки. Где-то там, в одной из этих серых коробок, возможно, на 23-м этаже всевидящей башни, сидела «Дитя Бетона» и писала свои посты о крови Земли и открывающихся дверях. Где-то в подвалах, тоннелях и слепых зонах промзоны действовал Игнат Родионов со своими призрачными сообщниками. А под ногами у всех, в сырой, отравленной темноте, что-то шевелилось, росло, протягивало гифы к трубам и фундаментам и настраивало свою резонансную частоту – камертон для пробуждения.
Морозов потушил свет и вышел из кабинета, оставив за спиной экран с застывшим кадром – искажённым, двойным миром, запечатлённым в луже. Уликой, которая была видна только тем, кто уже начал смотреть вниз.
Глава 1.5: Приглашение
Квартира Морозова в предрассветные часы была камерой сенсорной депривации, где тишина становилась осязаемой субстанцией. Темнота за окном была абсолютной, густой, как чёрная краска, лишь кое-где разбавленная тусклым оранжевым отсветом уличного фонаря, пробивавшимся сквозь щель в шторах и рисовавшим на потолке длинную, тощую полосу, похожую на шрам. Воздух стоял неподвижный, выпитый, казалось, до последней молекулы кислорода, оставив после себя лишь спёртую тяжесть и тот сладковатый, фоновый привкус, который уже стал нормой. Тишина была настолько полной и глубокой, что в ушах звенело от её давления – высокий, тонкий звук, похожий на крик комара, запертого в черепе.
Морозов спал, но сон его был не отдыхом, а продолжением бодрствования, иной, более напряжённой и правдивой формой работы. Его сознание, измотанное за день, скользило по скользкой грани между истощением и чистым, неразбавленным кошмаром. А потом, в какой-то миг, граница исчезла. Не стёрлась, а растворилась, как сахар в горячем чае.
Он не засыпал – он проваливался.
Не в мягкую темноту забытья, а в плотную, тёплую, живую тьму, которая облепила его со всех сторон, как густой, тягучий сироп. Он не видел глазами – он ощущал всем телом, каждой порой, каждым нервным окончанием. Он был в лабиринте. Но это был не лабиринт Дедала.
Стены состояли из сплетённых, пульсирующих волокон. Одни были угольно-чёрными, маслянистыми на вид, словно мокрые корни ночи. Другие – фосфоресцирующими, по больному белыми, излучавшими тусклый, болотный свет, которого было ровно столько, чтобы увидеть ужас целиком, но не разглядеть спасительных деталей. Это была грибница. Но не та простая, что оплетает гниющие пни в лесу. Это была архитектура. Сеть ходов, тоннелей, залов, арок и колонн, выточенных и сплетённых в толще земли с инженерной, бесчеловечной точностью. Воздух (если это был воздух) был густым, влажным и сладким, как звук контрабаса, пропущенный через сироп, с металлическим, кровяным привкусом на задней стенке гортани.
Морозов не шёл. Он плыл по этому лабиринту, несомый медленным, неотвратимым током, что исходил из самой глубины, из самого сердца тьмы. Его проносило мимо ответвлений, где на стенах, словно иконы в нишах, были вплетены в мицелий обломки арматуры, ржавые шестерни, осколки стекла и фарфора с едва видными синими узорами. Он видел углубления, в которых лежали, слившись с биомассой, расплывчатые человеческие формы – одни неподвижные, окаменевшие, другие едва шевелящиеся, как во сне паралича. На одном лице, обращённом к проходу, он узнал черты Алексея Судакова – глаза были закрыты, но губы беззвучно шевелились, повторяя какую-то бесконечную формулу. В другом углублении мелькнуло бледное, искажённое лицо женщины – той самой, что нашли в котловане. А дальше, в свежей, ещё влажной нише, угадывались смутные, юные черты – возможно, Кирилла Орлова. Они были не просто мёртвыми. Они были запчастями. Топливом. Архивом.
И везде – Ритм. Низкий, сокрушительный гул, который был не звуком, а вибрацией самой материи, самой тьмы. Он отдавался в его костях, в корнях зубов, в каждом нервном окончании, настраивая его тело на чужую, нечеловеческую частоту. Это было сердцебиение чего-то колоссального. Дыхание спящего Левиафана, вплетённого в геологию.
Лабиринт, все его бесчисленные ответвления, сходился к центру. К полости, размером с целый заводской цех. И в ней, в самом сердце, билось Оно.
Это не было существом в привычном смысле. Не чудовищем, не богом. Это был Узел. Гигантский, непостижимо сложный клубок из тех же волокон, но спрессованных до плотности камня, переплетённых с жилами руды, с пластами глины, с ржавыми обломками целой эпохи промышленности – тут угадывался край гигантской шестерни, там торчал, как кость, коленчатый вал какого-то древнего механизма. Он напоминал чудовищное, корневищное сердце или мозг, вывернутый наружу, обнаживший все свои извилины и сосуды. Его поверхность медленно, волнообразно колыхалась, и с каждым таким движением по всей сети тоннелей, на сотни метров вокруг, пробегала волна того самого бледного, болотного света, зажигая на миг всю паутину. От Узла расходились массивные, похожие на артерии или на корни дуба-великана, тяжи. Они уходили в темноту в разных направлениях, теряясь в географии спящего под городом мира. И один из них, Морозов с ужасом и почти что признанием осознал, тянулся туда, где в реальном, верхнем мире стоял его дом. Дом. Кокон. Ловушка.
И тогда пришло Осознание. Не голос. Не слова в ушах. Это была чистая, невербальная мыслеформа, вбитая прямо в подкорку, в самое древнее, рептильное сознание, как раскалённый гвоздь:
ТЫ ХОДИШЬ ПО МНЕ.
(Мгновенная, болезненная вспышка-видение: его ботинки на асфальте, на плитке подъезда, на влажной земле котлована, на бетонной пыли в подвале. Каждый шаг – прикосновение, передача сигнала, крошечный толчок по сети.)
ТЫ ДЫШИШЬ МНОЙ.
(Вспышка: влажный, спёртый воздух подвала, его собственной квартиры, наполненной теперь тем же сладковатым оттенком; его собственные лёгкие, расширяющиеся, втягивающие в себя не просто кислород, а споры, частицы, сам дух этого места.)
СКОРО ТЫ УЗНАЕШЬ МЕНЯ ИЗНУТРИ.
(Вспышка: его собственное лицо, искажённое ужасом, отражающееся не в зеркале, а в чёрной, маслянистой, движущейся поверхности самого Узла. И в этом отражении что-то было не так с глазами.)
В этот момент один из светящихся тяжей, отходящих от центрального Узла, дёрнулся, как мышца, и потянулся прямо к нему, к плывущему в потоке сознанию Морозова. Он не был нитью. Он был туннелем, шахтой, раскрывающейся пастью. Его конец разверзся, открывая не пустоту, а плотную, бархатистую тьму, готовую принять, обволакивающую, окончательную.
Морозов вырвался.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.