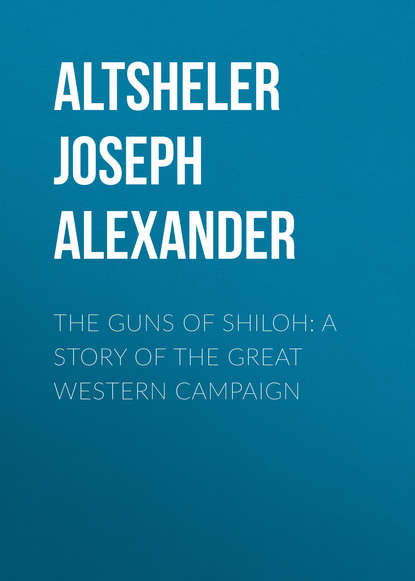- -
- 100%
- +
Идеально.
Лисси сорвалась с кровати, схватила потрёпанный блокнот в чёрной коже (конфискованный у какого-то забытого поэта) и перо с почти высохшими чернилами, которые, казалось, писали не чернилами, а самой концентрацией злости. Уселась в ореоле света настольной лампы, превратившись в скульптуру из концентрации, нервных линий и решимости.
«Цитадель Церкви Единого Светильника», – вывела она угловатым, колючим почерком, который словно рвал бумагу на части.
Подчеркнула три раза, будто высекая на камне.
Стены: 30 локтей, гладкий полированный камень, алхимическая пропитка от альпинистов и оптимистов. Мимо. Даже мухи с трудом держатся.
Охрана: Стражи-паладины в латах, отполированных до ослепительного блеска (ночная слепота гарантирована). Боевые клерики с молотами, которые служат и для молитв, и для дробления черепов. Простые братья ордена – фанатики с глазами, как у сытых сов. Видят в темноте. Слышат ложь по биению сердца. И все смертельно скучают в отсутствии еретиков, которых можно было бы с энтузиазмом просвещать. Опасно.
Магическая защита: «Купол Бдительности». Сигнализирует о всём неосвящённом, греховном или просто подозрительно честном, что пытается войти или выйти. Значит, уйти можно как угроза (уже плохо), но войти нельзя как гость (ещё хуже). Идиотский дизайн. Типично для церкви – сначала всех записать в грешники, а потом удивляться, почему никто не заходит в гости.
Она задумалась, постукивая пером по зубам. Вкус чернил, прошлогодних решений и лёгкой паники.
«Следовательно, – написала она с торжеством, будто открыла новый закон физики, – нужно не пробиваться сквозь защиту, а быть впущенной внутрь. Стать частью интерьера. Как пыль. Или, в крайнем случае, как скромная, но полезная плесень.»
Перо заплясало по странице, выписывая варианты с сардоническим энтузиазмом.
Вариант 1: Поставщик. Фрукты, овощи, восковые свечи (особо чистые, от слепых монахинь). Отпадает. У них учёт тщательнее, чем в королевской казне. Каждая морковка имеет имя, родословную и справку о моральной устойчивости. Каждый разносчик – проверен до седьмого колена, включая домашних животных.
Вариант 2: Ремонтная бригада. Слишком много людей, слишком много глаз, слишком много вопросов в стиле «а куда ты пошла с этим ломом, сестра во свете?» и «почему у тебя в сумке болты, а не благочестивые мысли?».
Вариант 3…
Она остановилась. Улыбка, медленная, хитрая и абсолютно лишённая всякой святости, поползла по её лицу, как кот по подоконнику. Идея была настолько проста, что её гениальность мог оценить только циник или профессиональный вор. А лучше – и то, и другое в одном лице.
«Послушница. Из дальнего, забытого богом, бухгалтерией и, желательно, почтовой службой монастыря.»
Она с наслаждением вывела:
Монастырь Святого Козьмы Покровителя Заблудших Овец и Мелкого Рогатого Скотоводства (именно так, надо уточнить в церковном справочнике, если он, конечно, не сгорел). Где-нибудь на окраине карты, где туман ест память, дороги едят грязь, а почта теряется с завидной регулярностью раз в неделю.
Прибыла для духовного обмена, помощи в библиотеке (переписывание трактатов о греховности смеха), смирения гордыни уборкой нужников – неважно. Важно: статус «своей», но чужой. Свобода перемещения по служебным и общим помещениям. Любопытство, притуплённое годами монастырской жизни, будет воспринято как норма. Идеальная невидимость в рясе.
«Отлично, – пробормотала она, – так у меня будет свобода действий внутри… правда, с собой ничего особо не возьмёшь. Придётся путешествовать налегке. Как дух. Только без способности проходить сквозь стены.»
Она записала:
Инвентарь под личиной: только самое необходимое. Молитвенник (утяжелённый свинцовыми вставками, на случай острой теологической дискуссии). Чётки (с бусинами-отмычками третьего класса, для простых замков и отвлечения внимания). Гребень (с двумя упругими стальными шпильками – девичья гордость и инструмент профессионала в одном флаконе). Всё. Никаких потайных карманов с дымовыми шашками или свёртками взрывчатого порошка. Скромность – лучший камуфляж. Бедность – лучшая рекомендация.
План обретал форму, как скелет в шкафу – некрасивый, но функциональный. Но в его фундаменте зияла дыра, круглая, официальная и пахнущая бюрократическим формалином, как печать.
«Документы», – написала Лисси и поставила рядом жирную, зловещую кляксу, словно приговорив слово к забвению.
Настоящие. Не поддельные «из-под полы» у слепого гравера Фредди, а настоящие пергаменты с водяными знаками, магическими автографами регистраторов, сургучными печатями и той особой скучной аурой, которую источает любая уважающая себя бюрократия. Церковь пропускает через «Око Истины» – артефакт, похожий на большую, недовольную лупу. Оно не читает мысли (слава всем мелким богам!), оно читает бумаги. И чует фальшь в печатях лучше, чем ищейка – кость.
Она откинулась на спинку стула, и тень от абажура скрыла верхнюю часть её лица, оставив в свету только жёсткий, напряжённый рот и острый подбородок.
«Значит, – тихо произнесла она в полумрак комнаты, обращаясь скорее к портрету, чем к себе, – перед тем, как облачиться в рясу смирения и лицемерия, мне придётся навестить Муниципальный Архив Регистрации Духовных Лиц. И устроить там маленький, тихий, совершенно неприметный хаос. Не кражу. Подмену. Тихий, аккуратный административный саботаж.»
Она закрыла блокнот с тихим, решительным щелчком. План был готов. Он был хрупок, как надежда, абсурден, как смерть от банана, и держался на трёх китах: вере в человеческую глупость, надежде на вселенскую скуку и расчёте на свою способность всё испортить в самый подходящий момент.
Иными словами, это был самый надёжный план из всех возможных.
Лампа мягко потрескивала, будто пережёвывая свет. На портрете отец, казалось, едва заметно подмигнул. Или это просто треснул лак от времени и сырости. Или это был знак. Знак одобрения. Или предостережения. С Гарретом никогда нельзя было быть уверенной.
Лисси потушила свет и растворилась в темноте, уже мысленно примеряя на себя личину набожной, немного простоватой и смертельно скучной послушницы из монастыря Святого Козьмы. Ей предстояло украсть трусики у живой святой, вооружённой молотом.
Но сначала – украсть личность у безликой бюрократии.
Работа есть работа. И, как говаривал Гаррет, иногда самое сложное – не взять нужное, а стать тем, кому это должны дать.
Глава 4. Муниципалитет
Муниципалитет был не просто зданием. Он был оплотом, цитаделью, священной коровой и наждачной бумагой для души одновременно. Здесь, в этих стенах из полированного известняка, добытого в каменоломнях на костях предков и неоплаченных счетах, вершилась истинная магия Города – магия бюрократии. Она была одним из трёх китов, на которых покоилась власть Барона и благосостояние его бесчисленных кузенов, тётушек и незаконнорожденных отпрысков (все они, разумеется, числились на синекурных должностях вроде «Главного Смотрителя за Миграцией Птиц в Южном Квартале»).
Воздух здесь был особенным. Это был густой коктейль из запахов: пыли вековых папок, едких чернил, дешёвого воска для полов, человеческого пота от долгого стояния в очередях и тонкого, но неотступного аромата страха – страха перед неправильно заполненной формой 18-рБ. И поверх всего – запах полированной кожи и холодного металла, исходивший от стражей. Они стояли неподвижно, как горгульи, но их глаза – маслянисто-калёные шарики – медленно вращались, следя за всем. Они не пахли просто неприятностями. Они пахли крупными, оформленными в трёх экземплярах, завизированными печатью и отправленными на долгое, мучительное согласование неприятностями.
В этом отлаженном, гудящем, как улей с пчёлами-педантами, механизме, среди роя клерков в мышино-серых сюртуках и просителей в потёртых камзолах, сновали неприметные фигуры в синей униформе – уборщики Муниципалитета. Их миссия была сакральна: поддерживать иллюзию. Чтобы ни у одного визитера, от купца до нищего, не закралась крамольная мысль о грязи, хаосе или, упаси Свет, неэффективности. Здесь всё должно было блестеть, давить блеском, лоском и неумолимым порядком. Грязь была не просто грязью – она была ересью против Системы. А с ересью здесь боролись с тем же рвением, что и в церкви, только протоколами, а не молотами.
На втором этаже, где коридоры были пошире, а ковры – потолще (чтобы заглушать стоны просителей), у стены, украшенной безжизненным портретом какого-то усатого предка Барона, трудилась одна из таких синих фигур. Но даже в униформе, сшитой, казалось, из самой серости, даже сгорбившись над ведром с водой цвета отчаяния, в её движениях была странная, кошачья грация. Тонкая, почти хрупкая, она водила тряпкой по мраморным плитам с точностью хирурга, выводя идеальные круги, как будто совершала не уборку, а некий тайный, геометрический ритуал.
– Милочка! – раздался голос, острый и чёткий, как удар печати по непокорной бумаге. Мимо, едва не взлетая над полом на каблуках-гвоздях, пронеслась клерк-мадам Глимз. Её одежда была темнее обычного клеркового серого – цвета мокрого асфальта и безнадёги, а на груди поблёскивала брошь в виде стилизованного свитка с кинжалом – знак старшего чиновника отдела Внутреннего Контроля и Душевных Мук. Охапка документов в её руках казалась высотой с небольшую крепостную стену и пахла угрозой. – Вы должны быть определённо расторопнее! Эта… лужа презрения к чистоте и уставу 45-Г образовалась здесь целых пять минут назад! Пять! Это безобразие. Это ставит под сомнение эффективность всего отдела поломойных дел и, как следствие, подрывает всю стабильность вертикали власти!
Она обошла мокрое пятно по широкой дуге, будто это была не вода, а расплавленная лава официальных проволочек или, что ещё хуже, свежая жалоба.
Девушка у ведра не вздрогнула. Она лишь чуть склонила голову, и из-под козырька синего кепи, сбитого набекрень с небрежностью, которую можно было счесть за простодушие, блеснул луч света, пойманный в зелёные, как лесная прохлада в летний зной, глаза. В её взгляде не было ни страха, ни подобострастия – лишь спокойная, почти отстранённая внимательность, с какой учёный рассматривает интересного, но неопасного жука.
– Всенепременно, клерк-мадам, – прозвучал её голос, тихий, но удивительно чёткий в гулком коридоре, будто отточенный на шепотах в тёмных переулках. – Прошу прощения за временный эстетический диссонанс. Через минуту всё будет блестеть с надлежащей муниципальной интенсивностью, предписанной параграфом 12 приложения «В» к уставу о чистоте горизонтальных поверхностей.
Клерк-мадам Глимз, уже отбежавшая на несколько шагов, на мгновение замерла, будто наткнулась на невидимую стену из собственного изумления. Что-то в этой фразе – слишком правильное, почти пародийное, как бюст Барона из сыра на праздничном столе – задело её бюрократическое нутро. Она обернулась, сузив глаза до щелочек, в которых заплясали подозрительные искорки.
– «Эстетический диссонанс»? – повторила она, растягивая слова, как резиновую печать. – «Муниципальная интенсивность»? Откуда у поломойки с третьего подуровня, чей словарный запас, по идее, должен ограничиваться «швабра» и «увольнение», такие выражения? Ты не из новых? Из «образованных»? Из тех, кто думает, что книги умнее инструкций?
Лисси – а это была она, и её руна под перчаткой тихо щекотала, словно смеясь, – уже вытирала лужу насухо, движения её рук стали быстрее, почти невидимыми, как тени от пролетающей птицы.
– О, нет, клерк-мадам, – её голос стал ещё тише, заговорщицким. – Просто слушаю, когда умные и важные люди, такие как вы, разговаривают в коридорах. Слова липнут, как грязь. Стараюсь оттирать и то, и другое с одинаковым усердием. Чтобы не мозолило глаза начальству.
Это прозвучало как идеальная, выверенная смесь лести, простодушия и тонкого намёка на общую участь маленьких винтиков перед большими шестернями. Глимз фыркнула, но брошь на её груди чуть успокоилась, перестав так яростно ловить свет, словно готовая вот-вот выстрелить.
– Смотри у меня. И чтобы больше не липло. Ни грязи, ни слов. Чистота – прежде всего. А тишина – её верная спутница и соучастница.
– Как вы мудро и глубоко изволили заметить, – почти прошептала Лисси, уже сжимая в руках почти сухую тряпку, которую можно было бы использовать как орудие удушения, будь на то воля и необходимость.
Клерк-мадам, удовлетворённо кивнув, будто только что утвердила важный документ, ринулась дальше, её каблуки отстукивали по мрамору сухую, безжалостную дробь неоспоримой власти. Лисси выжала тряпку в ведро с водой, которая уже давно приобрела цвет уныния и мышиной мочи. Она окинула коридор быстрым, сканирующим взглядом, который ничего не упускал: страж у дальнего поста смотрел в пространство, перемалывая внутреннюю жвачку скуки и мечтая, вероятно, о кружке чего-то покрепче чая; два мелких клерка, зажав под мышками папки, лихорадочно шептались о «проценте с ночной поставки в порт»; из-за дубовой двери с табличкой «Отдел Налогообложения и Душевного Спокойствия (входящие без справки от врача – на свой страх и риск)» доносились приглушённые звуки чьих-то финансовых, а значит, и душевных, страданий.
Уголок её рта дрогнул в едва уловимой, холодной усмешке. Здесь, в этом улье, где каждый был прикован к своей ячейке – кто бумажной, кто штыковой, кто тряпичной – она была единственным свободным электроном. Муравьём, которого не замечали, потому что он был частью пейзажа. А что делает незаметный муравей в сердце муравейника? Он ползает везде. И всё слышит. Особенно то, что не предназначено для чужих ушей – скрип перьев, выводящих суммы откатов; шёпот о «ночных поставках» контрабанды под видом канцелярских кнопок; тихий стон города, заглушённый толщей официальных документов, как крик под подушкой.
Подхватив ведро, она ловко юркнула в сторону служебной лестницы – узкой, тёмной, пропахшей мышами, старой штукатуркой и страхом быть пойманным без пропуска. Её синий кепи мелькнул в полумраке и исчез, как вспышка чужого, живого, неподконтрольного мира в этом царстве мёртвого, отлаженного порядка. Пол на втором этаже действительно теперь блестел безупречно, отражая потолок с той же бездушной точностью. Но Лисси уже интересовали другие, куда более тёмные и не такие отполированные уголки Муниципалитета. Ведь чистота – понятие относительное. А самая интересная, самая компрометирующая грязь, как учил Гаррет, часто прячется не под ковром, а в самых глубоких, официально запечатанных ящиках. Или, на худой конец, в мусорных корзинах начальников.
Воздух в коридоре на третьем этаже пах уже не просто пылью, а старой пылью – пылью, которая обрела право на гражданство и, возможно, даже на небольшую пенсию. Смешанный с запахом заплесневелого пергамента и едва уловимым, но въедливым запахом отчаяния – стандартный аромат любого государственного учреждения, где решаются судьбы, обычно в худшую сторону. Лисси остановилась, не доходя до служебной двери, ведущей в вентиляционную шахту. На тыльной стороне её левой ладони, под тонкой кожей перчатки, руна в форме ключа отозвалась тихим, тёплым покалыванием, словно крошечный компас, стрелка которого дрогнула и указала на север. «Здесь», – шептало оно прямо в кость, тихо, но настойчиво. Лисси подняла глаза.
На массивной дубовой двери, украшенной резьбой в виде стилизованных свитков (чтобы даже дерево напоминало о бумажной волоките), висела табличка из потемневшей от времени и жирных пальцев латуни. Официальная надпись гласила: «Начальник миграционного контроля и духовных метаний. Вход строго воспрещён. (Особенно вам)». Чуть ниже, менее официальным, нервным почерком, кто-то добавил: «С вопросами о квотах для неупокоенных, полудемонов и прочих лиц с нестабильной телесностью – в 37-й коридор, к клерку Грызлику. Он хоть слушать вас будет, в отличие от меня. И у него есть печенье. Плохое, но есть».
«Остроумно, – беззвучно шевельнула губами Лисси, окинув пустой, гулкий коридор быстрым, как взмах крыла летучей мыши, взглядом. – И информативно». Ни души. Только портрет очередного усатого сановника, смотрящего на неё с упрёком, будто она опоздала с подачей декларации о доходах за 1573-й год. Дверь поддалась без скрипа – видимо, петли регулярно смазывали на средства из некоего «фонда оперативной тишины», чтобы визитеры с «благодарностями» не беспокоили начальство лишним шумом и могли войти, не стучась, как добрые духи. Она ловко проскользнула внутрь, затворившись за спиной с тихим, едва слышным щелчком.
Кабинет не был пустым. Он был наполнен. Наполнен тем специфическим, уютным беспорядком, который красноречивее любого годового отчёта говорит о статусе, доходах и моральном облике владельца. Деловая, аскетичная обстановка здесь не царила – она утонула, как нерадивый клерк в реке Стикс, под грудой более насущных и приятных вещей.
На массивном дубовом столе, придавленном мраморным пресс-папье в виде химеры, пожирающей собственный хвост (символично, подумала Лисси), вальяжно раскидались папки. Одни были перевязаны алой лентой с сургучными печатями, на которых красовались грозные надписи: «Срочно. Конфиденциально. Не читать. Особенно вам». Другие мирно соседствовали с конвертами из плотной, дорогой, бархатистой на вид бумаги, которые даже не пытались выглядеть как что-то иное, кроме утренней почты от благодарных просителей. Лисси уловила знакомый, сладковато-гнилостный запах – смесь кожанных переплётов, едких чернил и лёгкого, пудрового аромата взяток крупного, отборного калибра.
Вдоль стены, у громадного, тёмного, как совесть чиновника, шкафа, выстроился немой, но красноречивый парад даров. Плетёные корзины ломились от заморских фруктов, цвет которых казался неприличным, почти вульгарным в этом серо-буро-малиновом Городе. Деревянные ящики с перламутровой инкрустацией намекали на содержимое крепче сорока градусов и дороже месячного жалованья мелкого клерка. Этикетки пестрели вычурными названиями вроде «Огненный Дракон с Ледяных Пиков – выдержка в дубовых бочках из плачущего леса» или «Эликсир Забытых Снов – дистиллят ночных кошмаров, выдержка три века». Лисси не знала их вкуса – её рацион редко включал что-то дороже чёрствого хлеба и вчерашнего рагу из того, что не успело сбежать с рынка. Но она отлично знала, сколько даст за одну такую бутылку старина Гнус, скупщик краденого с прилавка на Рыбном рынке. Цена равнялась примерно полугоду её тихой, неприметной жизни или одному очень громкому провалу.
Но сегодня её интересовали не сокровища, а мусор. Потому что в мире бюрократии именно мусор часто содержит ключи к дверям, которые официально наглухо заперты.
Её взгляд, острый и цепкий, как у настоящей лисы, проскальзнул мимо соблазнов и ухватился за скромную, позеленевшую от времени металлическую корзину у ножек стола. В ней лежала смятая, порванная, испачканная чернилами бумага – брак, черновики, гневные отказы, написанные под горячую руку. И, что самое главное, печати. Официальные, казённые, красивые печати Миграционного Контроля, поставленные впустую на испорченных бланках. Одного такого клочка, с неповреждённым, чётким оттиском, ей было достаточно. Остальное – прикрытие.
Она быстро, почти бесшумно, перебрала содержимое, пальцы в перчатках двигались с привычной ловкостью. Вот он – уголок с вожделенным штампом, «утверждено» и подпись, пусть и на документе, объявляющем некоего господина Плюгавца «персоной нон грата» за «неподобающую форму усов». Не раздумывая, она вытряхнула всю корзину в принесённый с собой потертый холщовый мешок для мусора. Дело сделано. Повернулась к выходу, чувствуя лёгкий прилив удовлетворения. Ещё один шаг к цели.
И застыла.
В дверном проёме, заполнив его собой, как пробка бутылку с дорогим коньяком, стоял охранник. Не просто стражник – монолит в поношенной, но добротной, туго застёгнутой униформе, с лицом, которое, казалось, высекали тупым зубилом из гранита вечных подозрений и мелких пакостей. Его маленькие, глубоко посаженные глазки, похожие на две чёрные пуговицы, пришитые к мешку с картошкой, медленно, с наслаждением бульдозера, обследовали её с головы до ног, будто составляли опись на конфискацию.
«Новенькая?» – голос у него был хриплый, будто просеянный через сито из окурков, дешёвого бренди и разбитых надежд.
Автоматизм – лучший друг вора, его вторая натура, его броня и щит. Маскировка включилась сама собой, как ловушка, спущенная пружиной: плечи ссутулились, спина согнулась в покорной дуге, взгляд мгновенно потупился в блестящий, отполированный до зеркального блеска паркет, в котором теперь отражались только её стоптанные башмаки и его громадные, грязные сапожищи. В руках появилась та самая подобострастная дрожь, которую она наблюдала у просителей у дверей кабинетов. «Да, господин стражник. На испытательном сроке», – пропищала она, стараясь звучать как можно более мокрой, испуганной мышкой, которую вот-вот раздавит сапог Системы.
Он шагнул внутрь, и кабинет вдруг стал тесным, душным, наполненным запахом его немытого тела и грубой силы. «Не прихватила ничего лишнего отсюда?» – его дыхание пахло луком, перегаром и холодным, безличным авторитетом того, кто знает, что его слово здесь – закон, пусть и мелкий, подзаконный акт.
«Нет! Только… корзину почистила. Как велели», – Лисси робко потрясла мешком. Сквозь ткань глухо, уныло зашелестела смятая бумага – звук невинности, звук мусора.
«Как велели», – без выражения, как зачитывая приговор, повторил он. Затем движением, не допускающим возражений, грубо притянул её к себе за плечо. Одной рукой, огромной и волосатой, он ворошил содержимое мешка, удостоверяясь на ощупь, что там лишь бумажный хлам, а не конверты с хрустящими купюрами или миниатюрные золотые слитки. Другой… другая его лапа принялась за личный, тщательный досмотр. Его пальцы, тяжёлые и цепкие, как корни дерева, прошлись по её бокам, ощупали пояс, задержались на области груди – не с вожделением развратника, а с холодной, методичной, почти клинической проверкой ищущего спрятанную добычу. Лисси застыла, стиснув зубы до боли, глядя куда-то мимо его уха, в темнеющий угол кабинета, где стоял бюст Барона из дешёвого алебастра. Мысленно она уже перебирала способы, как можно вывести из строя такого верзилу с помощью острого каблука, внезапного удара в гортань и знаний в области анатомии, почерпнутых не из книг, а из уличных драк. «В лоб – никогда, Лисс, – звучал в голове голос отца, спокойный и ироничный даже в памяти. – Но если уж в лоб, то так, чтобы он больше не встал. А здесь… здесь пока терпи. Ты – мусор. Мусор не сопротивляется».
Не найдя искомого – ни конвертов, ни бутылок, ни свёртков, и, что, видимо, его слегка огорчило, ничего ценного и на её теле – охранник слегка отстранился. Его каменное лицо не дрогнуло. Затем он, с отцовской, снисходительной грубостью сильного к заведомо слабой, хлопнул её лапищей по упругому заду – не столько оценка качества «материала», сколько утверждение своего права это делать. Жест не сексуальный, а собственнический. Как хлопок по крупу лошади.
«Иди работай», – буркнул он, указывая большим, грязным пальцем на дверь. В его тоне сквозило разочарование. Возможно, он надеялся на конфликт, чтобы было за что зацепиться. Или на взятку. Или ещё на что-то, что скрасило бы его унылую смену. Не получилось.
Лисси выскочила в коридор, как пробка из шампанского, которое она никогда не пила и вряд ли когда-нибудь попробует. Сердце колотилось где-то в горле, выбивая яростную, гневную дробь, но на лице – лишь лёгкий, девичий румянец смущения, идеально вписывающийся в образ. Она быстро зашагала прочь, сжимая в потной, но твёрдой ладони мешок с драгоценным хламом. Гнев кипел внутри, острый и жгучий, но холодный рассудок уже гасил его, как водой. Хоть она и была раздосадована, унижена бесцеремонностью этого тупого быка, но помнила слова отца: «Злость – плохой советчик. Месть – роскошь, которую часто не можешь себе позволить. А профессионал всегда видит цель, а не помеху».
«Чуть не попала на клыки местного цепного пса, – прошептала она про себя, и в углу её рта дрогнуло подобие улыбки, лишённой всякой теплоты. – Но не попала. И добыча при мне.»
Самый опасный, самый грязный этап пройден. Теперь – тишина, терпение и ожидание ночи. Когда коридоры Муниципалитета погрузятся в сон, освещённые лишь тусклыми аварийными лампами, когда чернила на найденной, украденной печати под лаской её специальных, пахнущих серой и аммиаком реактивов оживут, переедут на чистый, непорочный бланк, и на свет появится сестра Елизавета из монастыря Святого Козьмы Покровителя Заблудших Овец.
Дело за малым. Она скользнула в полутьму служебного помещения для уборочного инвентаря, растворяясь в тени, как капля чёрных чернил в воде, оставляя после себя лишь идеально чистый пол и чувство лёгкого, ничем не обоснованного беспокойства у сторожа, который так и не понял, что именно его сегодня обокрали.
Глава 5. Ночная операция, или Тень в шкафу
Воздух в шкафу для уборочного инвентаря пах старыми тряпками, едкой щёлочью и пылью, которая, казалось, осела здесь ещё при основании Муниципалитета и с тех пор