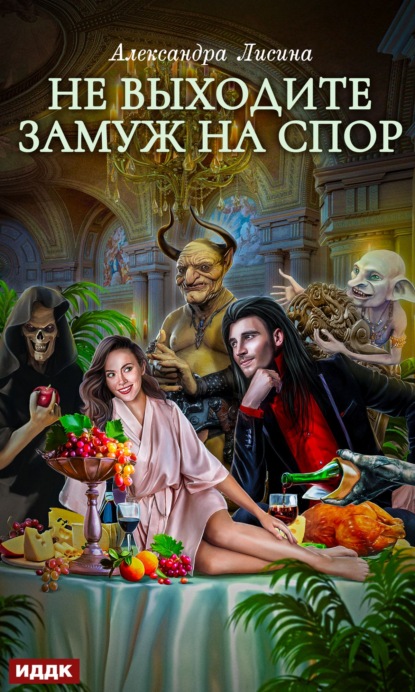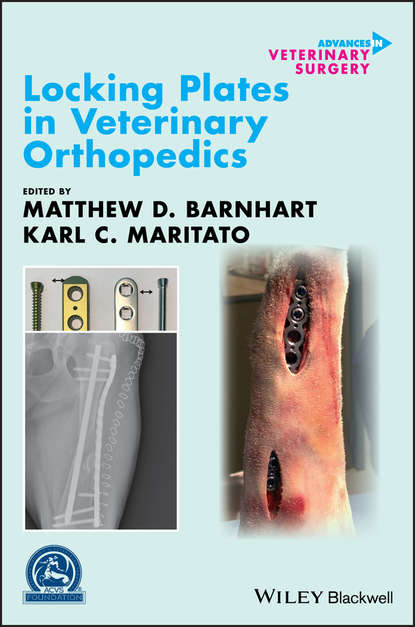- -
- 100%
- +
Когда она пила, всё, что было глубоко спрятано внутри, находило выход. В состоянии опьянения её слова становились резкими, острыми, как лезвия ножа. Она могла кричать, могла говорить то, что не решалась сказать в обычные часы, когда разум был ещё трезвым и контролируемым. И тогда, как в грозовом ливне, на Кешу обрушивались её обвинения, каждое слово – как удар по его душе, по его уверенности, по его страхам.
«Почему ты отстранился? Почему ты оставил меня разгребать это всё самой?» – её голос звучал в темноте, пронзая стены и воздух. Она кричала о несправедливости, о том, что потерялась в этом доме, в этой жизни, которая была обременена постоянным отчаянием и нежеланием выбираться из него.
Её слова резали Кешу глубже, чем нож. Он не мог не слышать, хотя ему было невыносимо это слышать. Его душа пряталась, как раненое животное, но он не мог сбежать. Он оставался здесь, рядом, хотя бы телесно, потому что в эти моменты, когда Вера так сильно кричала, её голос становился единственным, что пробивалось сквозь его туман. Сквозь его собственные отговорки и страхи.
Он стоял, будто камень, неподвижный, тяжёлый, отгородившись от её слов, словно бы те были слишком ядовитыми, чтобы их принять. Позволял им стекать по себе, как по скале, как грязь, которую можно было сбросить, отринуть, вычистить из памяти и вычеркнуть из своей жизни. Он был камнем, потому что камень не чувствует, камень не кричит, камень не сдаётся. Это была его защита – оставаться холодным, отдалённым, будто ничего из этого не касается его.
Каждое её слово было, как очередное обвинение, очередной нож в его душу. «Ты бросил меня! Ты все время молчишь и избегаешь!» – это было не просто обвинение. Это было признание боли, которое жгло её изнутри и заставляло терять веру, терять себя и терять контроль над своей жизнью. Но, несмотря на это, Кеша оставался на месте, не двигаясь, не отвечая, как будто бы его присутствие было просто пустым жестом.
Вера и её крики были его оправданием. Это было удобно, это было легко, как спасательный круг в океане безысходности. Он мог говорить всем, когда кто-то спрашивал: «Она пьёт. Она орёт. Это её вина». Он мог смотреть на мир и видеть, как его поддерживают друзья, как родные кивают в понимании, как все вокруг считали, что это не его ошибки, это не его жизнь, это не его ответственность.
Каждый раз, когда Вера уходила в эти ночи, когда пустая бутылка становилась её спутником, он чувствовал, как его собственное оправдание укрепляется, словно бы стены в старом, ветхом доме. Каждое слово её в гневе, каждое резкое движение, каждое обвинение, становилось кирпичиком в стену, которая отделяла его от реальности.
Его мир был миром, в котором не было выхода. Все эти вечера, полные её криков и их последующего молчания, были его защитой, его способом отгородиться от реальности, от обязательств, от своей собственной слабости. Он мог бормотать себе, что это не он, а Вера разрушила их жизнь. Он мог убеждать себя и других, что всё, что с ними происходило, было следствием её решений.
И каждый раз, когда ночь настаивала на своём и Вера уходила в опьянение, он оставался в этом мире – в убежище самооправданий и эмоционального отчаяния, где каждый крик, каждый новый виток алкоголизма становился очередной главой их личной трагедии.
Это был не его выбор. Но Кеша боялся, что его осудят. Поэтому оставался в этом мире, в мире, из которого не было выхода.
Беременная Вера не знала, к кому обратиться. Мир вокруг вдруг стал узким, как коридор без дверей. Мама Кеши, сухо и без колебаний, отказала – её слова звучали так холодно, что внутри Веры всё будто оборвалось.
"Не вздумай снова об этом говорить. Раз уж забеременела – сама и разбирайся."
Эта фраза звенела в голове, словно чугунный колокол.
Подруги тоже говорили – вроде бы с поддержкой, но Вера слышала между строк что-то другое.
«Всё будет хорошо, ты справишься».
Но что именно они имели в виду? Хорошо – если ребёнок родится? Или хорошо – если получится избавиться от него?
Она больше не различала, где кончается сочувствие и начинается равнодушие.
Вера ощущала, что сходит с ума. Давление Кеши, его раздражённая отстранённость, тишина дома, где даже воздух казался чужим. А внутри неё рос кто-то – крошечный, упрямо живой. Вера чувствовала каждый день как напоминание, что времени всё меньше. Нужно решать, а она не могла. Любое решение казалось преступлением.
Иногда, когда Кеша был на работе, а Кэти и Иоан – в школе и садике, она просто уходила. Запирала за собой дверь и шла куда глаза глядят. Пустая квартира оставалась позади – с её звоном в стенах и нависающей тишиной.
Она бродила по улицам, наблюдая за людьми. За парами, что смеялись, держа друг друга за руки. За семьями, где отец катил коляску, а мать поправляла на ребёнке шапку. Всё это казалось Вере сном, из которого её выкинули.
В парке она покупала горячий пирожок с капустой – просто чтобы занять руки и хоть на мгновение почувствовать тепло. Потом садилась на скамейку, обнимала живот и начинала тихо говорить. Сначала это были обрывки фраз, потом – целые диалоги.
– Ты не представляешь, как здесь красиво, – шептала она. – Давай я тебе расскажу… Видишь ли, передо мной много деревьев. Листья падают, золотые, красные, они кружатся в воздухе, как будто танцуют. Это осень. Ты ещё не знаешь, что это, но, может быть, тебе удастся увидеть всё это самому. Я покажу тебе.
Иногда ей казалось, что ребёнок действительно отвечает – тихо, где-то изнутри, будто понимал каждое слово.
В эти минуты Вера забывала обо всём. О Кеше. О словах. О страхе. Мир сжимался до двоих – её и того, кто рос внутри. Это был её единственный безопасный мир, где не нужно было ничего решать.
Но возвращаясь домой, она чувствовала, как на неё снова наваливается реальность – тяжелая, вязкая, давящая на грудь. Всё возвращалось: пустые стены, усталый и осуждающий голос Кеши, тревожные мысли. И всё же она снова выходила в парк – потому что там, на скамейке под осенними деревьями, было хоть что-то похожее на жизнь.
Глава 16: В тени неизбежного.
Вера стояла у стола, и её руки, словно в трансе, неосознанно скользили по липкому тесту, оставляя на пальцах блестящие следы – серые, вязкие, как сама её жизнь. Это были не просто следы муки и воды. Это были следы её страха, её беспомощности, её отчаяния, как символ того, что она не могла контролировать, даже когда старалась изо всех сил.
Её движения были автоматическими, будто из другого мира, будто сама она не могла понять, почему стоит здесь, в этой кухне, обрабатывая куски теста, лепя пельмени, словно это могло спасти её. С каждым очередным движением, когда тесто обвивалось вокруг её пальцев, и белёсые комки превращались в круглые формы, в её голове не утихали те же самые мысли: «Еще немного и все закончится. Всё под контролем».

На кухне висела гнетущая тишина. Это была не обычная тишина, это было что-то более тяжёлое, как туман, сплетающийся из нерешительности и боли. Она могла слышать только собственное дыхание и звук теста, которое вздымалось и прилипало к её рукам, словно живое существо, сопротивляющееся её усилиям. Этот звук был тяжёлым, болезненным, как эхо её собственных мыслей, как шум, который продолжал ей шептать: «Ты не справишься. Ты не справишься».
Время было странным – растянутым и вязким, как в тягостном сне, который не хочет заканчиваться. Каждая минута была сплошной пыткой, а каждое движение – новой ошибкой, новым шагом в пропасть. Тело её было тяжёлым, словно камень, и, несмотря на это, Вера не останавливалась. Она не могла позволить себе остановиться.
Роды были неизбежны. Боль в животе сползала по ней, как ледяные волны, пронзая её изнутри с каждым новым движением, с каждым вдохом и выдохом. Она ощущала, как её тело сжимается и разжимается, как будто кто-то рвал её изнутри, разрывая на части. Но даже в этом состоянии, когда каждая клеточка кричала от боли, Вера продолжала лепить эти пельмени, словно бы в этом была какая-то сверхъестественная сила, заставлявшая её бороться.
«Пельмени… хотя бы это. Пусть хоть это будет под контролем», – думала она в отчаянии, хотя знала, что это была иллюзия. Иллюзия контроля в хаосе, где не было ни сил, ни надежды.
Почему-то в этот момент, когда каждая часть её тела протестовала от боли, она пыталась держать себя в руках. Это было её последняя соломинка – кусок теста, превращающийся в маленькие комки, её собственный способ напомнить себе, что она ещё жива, ещё держится. Но каждый раз, когда её пальцы скользили по липкой поверхности, когда пельмени формировались и раскладывались на столе, она чувствовала, как их прикосновение обманывает её, как будто их форма и её действия – это всё, на что она могла опереться.
Вопросы снова начинали крутиться в голове: «Почему снова я? Почему снова этот страх? Почему снова эта жизнь?»
Родовые схватки были уже здесь, но она не могла принять это. Она боролась, будто пыталась бежать от самой себя. Вера была в каком-то жестоком и нескончаемом состоянии войны – с телом, со страхами, с жизнью, которая была слишком беспощадной и слишком странной.
И вот, как удар молнии в ясное небо, – отошли воды. Это было неожиданно и словно конец света. Вера замерла, и в этот момент, словно из глубин самой тьмы, каждый нервный конец её тела отреагировал одновременно. Слезы, страх, боль, отчаяние – всё перемешалось и ворвалось в неё, но даже тогда, даже в этом критическом моменте, её руки продолжали двигаться всё быстрее.
Тесто, которое она пыталась формировать, теперь казалось ей чужим. Оно было не её, не частью её, а лишь чужой материей, другой жизнью.
Теперь её руки больше не лепили, не боролись. Они просто двигались, инстинктивно, как жестокая механика, отрывающая её от самой себя. Куски теста, словно части её души, падали на стол, как всё, что было когда-то важно.
Вера стояла, не в силах двигаться, не в силах выдохнуть, и всё в ней сливалось: тесто, страх, боль, отчаяние. Внутри неё была пустота, тьма, а впереди – неясность и страх.
И тут, как в страшном сне, схватки стали сильнее. Вера ощутила, как волна боли накрывает её с головой, словно прокрученный и перекрученный вихрь, из которого нет выхода. Её живот снова и снова сжался, и в этот момент ей казалось, что её тело разрывается изнутри. Она зажмурилась, будто это могло облегчить её страдания, но ничего не изменилось.
Крик вырвался, неуправляемый, истеричный, как скрип старой двери в заброшенном доме. Он был резким, диким, не похожим на голос женщины, который она знала.
– Я рожаю! – прозвучали эти слова, и от них у самой Веры пробежала дрожь. Она услышала собственный голос и не могла поверить в его вес, в его тяжесть, в то, что сейчас происходит.
Эти слова казались ей какими-то слишком настоящими, слишком болезненными, словно они рвали её душу на части. Как будто бы все страхи, все сомнения, все моменты, когда она чувствовала себя слабой и одинокой, сжались в эти два слова. «Я рожаю!» – это была не просто констатация факта. Это был крик отчаяния, крик о помощи, о страхе перед тем, чего она не могла изменить, не могла контролировать.
Она будто потеряла связь с телом, которое теперь было для неё чужим. Каждый новый спазм, каждая волна боли – как удары молота по её внутренностям – делали её всё более отстранённой. Мысли, израненные и вцепившиеся в прошлое, отказывались успокоиться.
«Не хочу этого. Не готова. Почему снова эта боль? Почему снова потеря контроля?»
Эти мысли крутились в её голове, завёртывались в спирали, нарастали, как снежный ком, перекатываясь с каждым ударом сердца, с каждым новым спазмом. Вера пыталась разорвать их, но это было невозможно. Страх, как тёплый поток, наполнил её изнутри, и теперь её разум был окутан мрачным туманом.
Кеша ворвался в кухню, его фигура, неуверенная и растерянная, выглядела как кадр из какого-то кошмарного сна. Он был похож на человека, который только что понял, что всё вокруг вышло из-под контроля. Его глаза метались по кухне, словно он пытался найти решение, но не мог. Он был растерян, но решителен, как бы странно это ни звучало в этот момент.
Его руки, словно из другого мира, принялись за одевание Веры, за подготовку её к тому, что было неизбежно. Они были неуклюжими, уверенными и в то же время слишком грубыми, почти насильственными. Вера едва ли ощущала его прикосновения, будто бы его действия были на грани реальности, не имея никакой связи с ней.
Это был не тот Кеша, который когда-то обнимал её в такие моменты, когда мир был светлым и простым, когда их отношения были сильны и было чувство, что любовь могла спасти их от всего. Теперь он выглядел как мужчина, который был потерян, который не знал, как реагировать, как спасать её. Его руки теперь были просто чужими – не теми, которые могли поддержать, не теми, которые могли стать опорой.
Она чувствовала, как его пальцы скользят по её плечу, по спине, по одежде, как будто он хотел облегчить её боль, но не мог, не знал как. Вера смотрела на него сквозь пелену боли, и в его глазах была пустота – холодная и немая.
«Это не тот Кеша», – подумала она.
Вера чувствовала, как все эти попытки и все эти действия только усугубляют её страх. Каждый новый шаг, каждое новое прикосновение были для неё как новый удар по её хрупкой внутренней оболочке. Словно бы Кеша был частью этого кошмара, который она не могла остановить, и всё, что он делал, было обрывочным и неподготовленным.
Внутри неё был хаос. Её тело не слушалось. Боль рвала её, крики рвались из горла, но и Кеша был теперь частью этого мира – чужим, неуверенным, отдалённым и бессильным.
Вера закрыла глаза и попыталась вновь сосредоточиться, но каждый раз, когда открывала их, она видела Кешу – растерянного и боязливого, пытающегося помочь, но не знающего, как.
Вера, скрипя зубами, пыталась выдавить из себя хоть слово, но её тело не слушалось. Он вызвал скорую, её голос был едва слышен в хаосе боли, который нарастал с каждым мгновением. Каждая схватка была как молния, оставляющая ожог в её душе. "Почему снова я? Почему снова этот ужас?" Мысли были разорванными, они не собирались в единую картину. Она чувствовала себя потерянной, как чужая в своём теле, в своём доме.
Когда скорая наконец приехала, Вера, как обезумевшая, закрыла глаза. Всё было чужим. Даже боль, даже этот момент – всё было непривычно. В машине, где каждый момент казался вечностью, её тело сжалось в новых схватках, и каждый вдох становился испытанием. Она пыталась думать о чём-то другом, но мысли снова возвращались: "Я не хочу этого. Я не готова. Почему всё повторяется?" Она чувствовала, как уходит её сила, как её тело, снова и снова, уходит в неизбежное.
Роддом. Холодный белый свет. Боль. Каждая клеточка её тела кричала, но Вера была молчалива, стиснув зубы, будто в этом было спасение. Но не было спасения. Это было бесконечным колесом, которое крутилось, не останавливаясь. Боль, страдания, бессилие. Она чувствовала, как её силы покидают её всё больше, как она медленно растворяется в этом. Вера пыталась оттолкнуться, но не могла. Всё, что она хотела, – чтобы всё остановилось.
Когда, наконец, роды завершились, и её ребёнок появился на свет, Вера не почувствовала ничего. Она не могла радоваться. Радость для неё уже не существовала. Всё, что она ощущала – это пустота. Никакого восторга. Никакого облегчения. Она смотрела на новорождённого, но всё, что она видела, – это тень своей жизни, повторяющейся снова и снова. Снова, как и прежде. Снова эта боль. Снова эта жизнь, которая не была ею выбранной.
Вера лежала, истощённая, с ребёнком на руках, закрыв свои глаза, боясь посмотреть, и пыталась понять, что происходит с ней. Она чувствовала только холод, одиночество и пустоту. Всё, что она когда-то мечтала, разрушилось, и она не знала, кто она теперь, в этой жизни, где каждое её движение и каждое её дыхание отравлены безысходностью.
Глава 17: Злые глаза Алекса
1 ноября. День отмеченный в календаре, как «День всех святых», который не имел в себе ничего примечательного для Веры, никакой магии, никакой символики. Он не был отмечен сердечных надеждах и не нес в себе той волнующей окраски, которую когда-то представляла Вера в своих снах и мечтах. Это для неё был просто ещё один день – день, который рождался в сером тумане, изматывающий и обыденный, как все предыдущие дни, но с новой жестокой реальностью.
Сегодня родился её сын. Третий ребёнок.
Маленький, хрупкий, обёрнутый в белоснежное одеяло, его крошечные ручки слабо подрагивали, словно еще не могли привыкнуть к этому новому миру. Его назвали Алекс. Имя выбрала Кэти – старшая дочь, восьмилетняя девочка с её детским сердцем, мечтательная и слегка упрямая. Это имя пришло к ней из школы, от одного мальчика по имени Алекс Жданов, который нравился ей. Простое, на первый взгляд обыденное имя, но оно звучало в их мире с какой-то странной магией, какой-то неуловимой связью с её собственным миром – с тем самым миром, где детская влюблённость и мечты обратили её внимание на что-то новое, на что-то далёкое, но значимое.
Теперь Алекс был здесь. Его хрупкое тело лежало на груди Веры, и в этот миг, когда нянечка из роддома передала его ей, Вера ощутила, как нечто холодное и живое ворвалось в её душу.
Но в то же время, с каждым резким и несравнимо тяжёлым вдохом, грудь сжимала тяжесть – неуверенность, страх и, возможно, стыд. Она посмотрела на него, и в ней смешивались и страх, и любовь, и непреодолимая пустота.
Младенец лежал у неё на груди – крошечный, беззащитный, совершенно зависимый от неё. Его кожа была мягкой, нежной, с небольшими капельками пота, и казалось, будто сейчас она могла бы погрузиться в это мгновение, забыть обо всём и просто отдаться материнскому счастью.
Но было иначе.
В его глазах – спокойных и настороженных – не было той искры, той невинности, которую Вера себе представляла. В них отсутствовала лёгкость, беззаботность, которую она так часто рисовала в своих мечтах, когда вспоминала о том, как будет выглядеть её счастливая жизнь после рождения Кэти и Иоана. А здесь, с Алексом, не было детской наивности, не было мягкого света и живых эмоций.
Его взгляд был… холодным. Жёстким. И это было не похоже на взгляд крошечного новорождённого, который только-только начал видеть мир. Он был чужим и в то же время слишком честным, слишком мудрым. Взгляд, который словно вызывал у Веры не тревогу, а ощущение, что перед ней существо, уже знающее слишком много о боли, страхах и потерях.
«Почему ты такой?» – спросила себя Вера в этот момент, но не могла найти ответ.
Кажется, это было несправедливо. Она ждала, что в эти первые мгновения, когда сын был с ней, он будет выглядеть иначе – мягче, менее обременяющим, более живым и неуязвимым. Но вместо этого перед ней был ребёнок, взгляд которого казался ей зеркалом её собственного страха и отчаяния.
И хотя сердце её плавилось от любви, от этого необыкновенного ощущения, оно не переставало сжиматься от тревоги.
Теперь она чувствовала, как её собственный страх обретает форму. Возможно, это было естественно – видеть в своём ребёнке отражение собственных страхов. Но это было непросто.
Вера снова закрыла глаза, пытаясь ощутить связь с ним, хотя бы на мгновение. Она хотела сказать себе, что всё будет хорошо, что теперь её жизнь изменится к лучшему, что вместе с этим маленьким существом она сможет вылечиться, начать заново. Но даже эти мысли не могли затушить холод, который словно искал путь в её душу через каждый новый взгляд этого малыша.
Слишком много боли было за плечами. Слишком много лет отчаяния и неуверенности.
Её руки сжали его крепче, и она прошептала в никуда:
– Прости меня…
Этот крошечный крик, шёпот, потерявшийся в тишине, был для неё чем-то вроде молитвы. И, возможно, этой молитвой она хотела оправдать не только себя, но и своё новое начало.
Вера и Алекс находились в роддоме, а их жизнь только начинала свой новый путь, в мире происходили значимые события. Это было время, когда Советский Союз был в сложном экономическом и социальном положении, а перемены и ожидания будущего были неясными и тревожными. В Соединённых Штатах и других странах продолжалась гонка вооружений, а на международной арене геополитическая напряжённость росла. В это время и в советской провинции, и в столицах стран-наследников, день за днём сбывались маленькие истории, которые были гораздо ближе простым людям.
В Москве в этот день обсуждали экономические реформы и строили планы на будущее, в Ленинграде открывались новые театральные сезоны, а в других городах Советского Союза обычные люди продолжали жить повседневной жизнью.
В Екатеринбурге (тогда ещё Свердловск) жизнь текла своим размеренным руслом, похожим на размытую картину в холодных тонах. Город был рабочим и индустриальным, с мощными предприятиями и заводами, а также огромным числом людей, занятых в повседневном труде. Сегодня в городе царила обычная, будничная тишина, с редкими звуками машин и гулом торговых точек.
Вера с Алексом находились в роддоме и воспринимали этот день как начало новой жизни, которое было одновременно и надеждой, и страхом. Лёгкие стены роддома с их обыденной стерильностью и запахом антисептиков создавали ощущение оторванности от внешнего мира, изолированности от всего, что было знакомо.
Из-за большого окна третьего этажа, где находилась палата, было хорошо видно, как внизу на улице, на светло-сером асфальте, собирались фигуры людей.
Вере сообщили, что её приехали навестить. Она посмотрела в окно и увидела их.
На улице стояли три фигуры: Кэти, Иоан и Кеша.
Кэти была в тёплой зимней шубе и смотрела в окно, словно сама оценивая, что там происходит. Её улыбка была лёгкой и непринуждённой, словно светила сквозь её подростковую беспечность. Она смотрела на Веру, и их взгляды пересеклись в этот миг – маленькая и удивительная связь матери и дочери, разделённые расстоянием и разными моментами жизни, но соединённые всё той же невысказанной любовью.
Иоан стоял рядом с Кэти и указывал пальцем на ремень, который был поверх его шубы. Это был подарок на его предстоящее день рождения, который предстояло отпраздновать только через неделю. Однако Кеша не мог дождаться и решил вручить подарок раньше, как-то спонтанно и живо, в попытке добавить немного радости и общения в этот холодный день.
В этот момент Вера решила показать Алекса. Подняв младенца, она осторожно демонстрировала его своим близким.

Кэти сморщилась, когда взглянула на него. Алекс был маленьким, сморщенным, бледным, и это не напоминало образ новорождённого, который она ожидала увидеть. Глаза Кэти не выражали презрения, скорее просто удивление и лёгкое потрясение от увиденного.
Иоан стоял с широко открытым ртом, словно поражённый чудом. Его детская реакция была чистой, неподдельной, выражающей удивление и интерес.
А Кеша поднял большой палец правой руки, изображая жест «Класс» – жест одобрения и поддержки, который был для него особым знаком уверенности. Этот жест был одновременно и светлым, и оптимистичным, и отчаянным, словно попытка сохранить спокойствие и уверенность, несмотря на бурю, что находилась в сердцах всех присутствующих.
Эта сцена была маленькой, но значимой. Они стояли там на улице, усыпанной маленькими сугробами первого осеннего снега, и в этот момент были связаны узлом эмоций – страхом, надеждой, тревогой и любовью. Вера смотрела на них и ощущала, как вся её жизнь в этот момент будто размывалась и начиналась заново.
Так они стояли, словно картинка, заполненная движением, звуком и светом, каждый из них со своей ролью и своей душой, связанной невидимой ниточкой. Вера с Алексом в роддоме, Кэти, Иоан и Кеша на улице.
Это был первый шаг. Простое, невыразимое, но уже важное событие, которое когда-то станет воспоминанием, хранимым в каждом сердце.
Когда их выписали из роддома…
Всё было таким же, как и прежде – привычный шум города, запах сигарет, случайные крики детей во дворе, голоса прохожих, перемешанные с шумом машин. Город дышал, шевелился, существовал в своём обычном ритме, а Вера снова оказалась на его пороге, держа на руках своего новорождённого сына. Казалось, что всё возвращается на свои места, но на самом деле ничего не было прежним.
Как только они переступили порог своей новой жизни, Вера ощутила, как мир стал хрупким, словно старое стекло, готовое вот-вот разбиться от любого ненужного толчка. Она пыталась найти точку опоры – какой-то фундамент, который мог бы вернуть уверенность, но это была иллюзия. Опора выскальзывала из её рук, холодная и сухая, подобно песку, который рассыпается при первом же дуновении ветра.