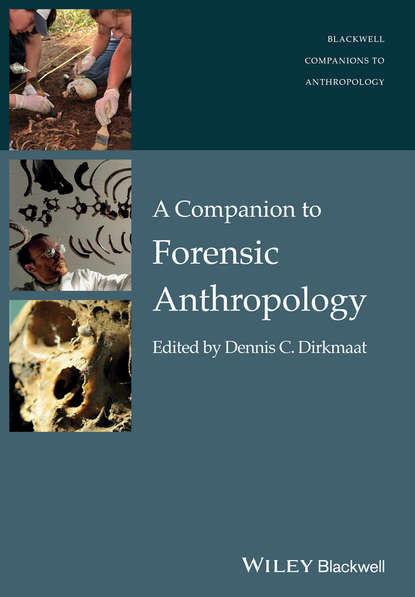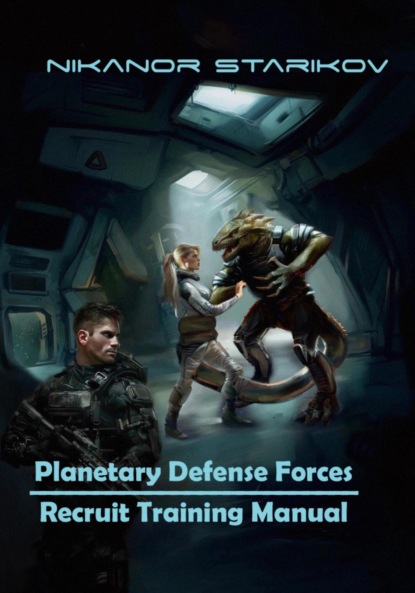- -
- 100%
- +
Слова упали на Веру тяжёлым грузом, словно яд, проникающий в сердце. Она хотела ответить, но слова застряли в горле. Каждый вдох был трудным, как будто воздух сам сопротивлялся. Всё это было больше, чем просто ссора. Это был вихрь его страхов, его неуверенности и страха перед будущим, смешанный с болью, которую он не умел выразить иначе.
Вера отошла к столу, и её взгляд скользнул по старенькому фотоаппарату. Для неё это был не просто инструмент – это был способ сохранить жизнь, пока она ещё была реальной. Каждый кадр фиксировал улыбки, слёзы, запахи, прикосновения, мгновения, ускользающие, как свет в рассвете. Фотоаппарат был её якорем, маленькой металлической коробочкой, хранящей целый мир внутри себя.
Она коснулась камеры, нажала на кнопку. Щелчок был тихим, почти незаметным, но для неё это был звук удержания времени. В каждом кадре, каждом замершем моменте, Вера пыталась оставить себе частицу настоящего – прежде чем мир снова станет слишком тяжёлым, а слова – слишком острыми.
Однажды, когда Кэти была ещё маленькой, Вера создала для неё фотоальбом. Альбом был аккуратным и уютным – с яркими бумажными вырезками, с изображениями ягод и цветов, которые она вырезала из упаковок жвачек. Этот альбом был символом счастья и любви, который она создавала своими руками, словно желая сохранить и вписать в него все светлые мгновения, связанные с дочкой.
«Наша Кэти» – так он назывался.
Когда она работала над ним, каждый лист был обёрнут светом и теплом. Она помнила, как сжималось её сердце от счастья, когда страницы становились ярче и наполнялись детскими фотографиями и теплыми воспоминаниями. Это ощущение было настоящим и правильным.
В её душе было смешение тревоги и надежды. Она боялась, что теперь, с новой жизнью, всё может стать сложнее, а одновременно верила, что любовь, как и раньше, будет её спасать.
Вера смотрела на старый фотоаппарат, который был у неё в руках, и чувствовала, как легко и сложно одновременно было фиксировать и оберегать память. Эти фотографии были не просто изображениями. Они были мостами между прошлым, настоящим и будущим. Вера могла жить в них, вспоминать и вновь чувствовать, как было в те времена, когда свет был ярче, а каждый шаг казался началом новой истории.
Теперь, когда скоро в эту семью придёт ещё один малыш, эти мосты, эти фотографии снова обретут значение. Новая глава, новое имя, новая любовь – всё это было впереди.
Холодный ноябрьский воздух пробивался сквозь тонкие занавески, закручиваясь в ледяные вихри по углам старого дома. С улицы доносился гул машин, редкие шаги прохожих – мрачный, неумолимый фон, на котором разворачивалась новая жизнь семьи. Когда появился Иоан, изменилось всё: не только стены, не только пространство, но и сам воздух – он стал плотнее, словно дом ожил в новом ритме, подчиняясь его крикам.
Маленький Иоан плакал неугомонно, его крики рвались сквозь тонкие перегородки и эхом отражались от углов, словно пробирались через саму ткань времени. Вера вставала по нескольку раз за ночь, каждое движение было тяжёлым и настороженным, как будто тени над её плечами готовы были рухнуть в любой момент. Кеша подталкивая её локтем, тихо подсказывал: «Иди, успокой его».
Иоан был непредсказуем. Вера находила его в самых странных местах: под столом, шурша ковром и ловя пылинки; в шкафу, куда он стремительно забирался, будто хотел спрятаться от чужих глаз; или за занавесками, где существовал только он и мир тёплого, уютного полумрака. Каждая находка вызывала у неё тревогу – казалось, что он открывает двери в параллельные миры, невидимые для взрослых, миры, из которых невозможно выйти.
Кеша же имел свой остров спокойствия. Маленькая комнатка, за пределами дома, превращённая в тёмную лабораторию для проявки фотографий, была его убежищем. Тусклый свет, запах проявляющего раствора и красные блики лампы создавали атмосферу странного умиротворения. Здесь можно было спрятаться от криков, от повседневности, от тревог. Тени танцевали по стенам, подмигивая сквозь свет, словно напоминали: в этом доме всегда есть место для хаоса, но и для одиночества, где можно собраться с собой и дышать.
Каждый раз, когда он смотрел на кадр, видя, как изображения проявляются на бумаге, он чувствовал, как ему становится легче. Однако его отношения с Верой были не такими. Она была слишком уставшей, слишком изменённой. Он видел это по её лицу – от тяжести материнства, от тревог, от бесконечных попыток справляться с новой жизнью. И, глядя на неё, Кеша ощущал странное чувство. Любовь не угасла, но изменилась, обретая холодность и размытость, словно туман.
Иногда он задавался вопросом, не зря ли всё это? Не из-за их торопливого брака, не из-за усталости и долгов, не из-за крошечного дома и всего остального. Кеша видел тени сомнений, мелькающие в её глазах, когда она думала, когда мчалась за ребёнком или смотрела в окно.
Вера была внимательным человеком, и теперь, кажется, слишком внимательным. Её сердце было словно раненая птица, трепыхавшаяся от малейшего шороха и страха. С каждым новым днём ей начинали казаться странными детали. Тени, расплывающиеся на стенах, когда свет включался в самой темноте. Ветер, вдруг распахивающий окна, будто в насмешку, в самый неподходящий момент. Шумы из пустой комнаты – звуки, которые вряд ли могли быть обычным домовым гулом.
«Что-то не так», – думала Вера.
Внутренний страх постепенно превращался в уверенность. Она знала, что это не просто случайные совпадения, а сигналы, которые её разум слабо, но отчаянно пытался уловить. Что-то было рядом, что-то, чего она не могла понять, и это что-то было не просто случайностью.
Она старалась держаться за свою семью. Уходила от мрачных мыслей, стараясь заботиться о Кэти и Иоане. Но каждый раз, когда она касалась крохотных пальчиков младенца или смотрела в глаза Кеше, который уходил в свою лабораторию и там погружался в себя, сердце сжималось от страха.
Вера боялась, что всё развалится. Она думала о том, что Кеша может найти поводы и для себя, чтобы не возвращаться домой, к крикам, к тревогам, к этому всё более отчужденному дому. Боялась, что у Кеши уже появился кто-то другой, кто-то, кто смог бы забрать его внимание и его любовь.
Кэти старалась. Она была уже не просто дочкой, но и помощницей, частью этого хаотичного мира. В её маленьких руках были попытки помочь маме, убраться, присмотреть за Иоаном. Она была зрелой девочкой, понимавшей, что её мама сейчас не просто устала, но и потерялась в этом доме, полном звуков и тревог. Кэти видела, как Верина уверенность тает, и решила, что нужно быть сильнее, мудрее, спокойнее.
Но и для Кэти не было простым наблюдать, как мама и папа становятся чужими, как будто стенами и временем их отношения разделяет непреодолимая пропасть.

Иоан – слишком мал, чтобы понять, но слишком чувствителен к напряжению. Младенец плакал – часто и без видимой причины. Его маленькие глаза искали успокоение в каждом взгляде, в каждом движении. Возможно, он чувствовал это напряжение в воздухе, то, что не проговаривается, но висит в каждом углу. Его мир был ещё слишком простым и слишком незнакомым, и каждый раз, когда его звуки эхом разносились по дому, Вера чувствовала, как сердце разрывается.
Этот дом, несмотря на уют и любовь, был похож на пустыню, где каждый шаг был неуверенным, каждый звук был предчувствием, а каждый взгляд – вопросом.
И всё же каждый из них продолжал идти вперёд. Вера держала детей за руки, Кеша оставался в своей лаборатории, а Кэти старалась видеть свет и порядок там, где было только мрак и сомнения.
Каждый из них вёл свою битву, и каждый был слишком мал, чтобы рассказать друг другу, что именно с ними происходит.
Вера сидела в комнате, где тёплый свет от настольной лампы уютно обнимал старые обои и мебель, отбрасывая золотистые тени по углам. Лампочка, старая и тусклая, будто сама знала, как важно её мягкое сияние – оно создавалось для того, чтобы обрамлять её мир в ночное время, защищая от пустоты и тишины. Перед ней лежал старый блокнот с выцветшей обложкой, которая когда-то была красной, но теперь только напоминала о времени и воспоминаниях, вплетённых в её жизнь. Его бумажные страницы хранили её мысли, как секретные послания из прошлого.
С движением, неуверенным и осторожным, как будто боялась потревожить его и пробудить что-то мрачное, она открыла блокнот. Слабый хруст бумаги разорвал тишину, будто кто-то прошептал на грани её памяти. Ручка скользнула по листу, и мысли начали выплывать, словно из глубокого, мучительного океана.
"Сегодня он снова назвал меня жирной свиньей. Сказал это с усмешкой, но я видела в его глазах нечто большее. Не злость, нет. Скорее, равнодушие. Как будто я стала для него чем-то обыденным, не стоящим заботы. Эти слова снова застряли у меня в горле. Почему я их слышу от человека, которого люблю?"
Она замерла, читая написанное. Строчки были словно заклинанием, которое не удавалось снять. Слезинка, блестящая как маленькая звёздочка, скатилась по её щеке и упала на бумагу, расплываясь там в серое пятно, напоминающее о боли. Вера вытерла её нервным движением, но это не помогло. Холод, как невидимая рука, сжался вокруг её сердца.
Страницы блокнота шуршали под пальцами Веры, словно ожившие тени, готовые рассказать свои истории. Каждая строчка, написанная когда-то в минуты радости или грусти, теперь казалась мостом между прошлым и настоящим, между тем, кем она была, и тем, кем становится.
"Я устала, но не могу отпустить. Я боюсь потерять то, что было, и одновременно хочу найти себя снова…"
Слова, словно магические ключи, открывали в её сознании скрытые комнаты: воспоминания о первых шагах Кэти, о том, как она держала её на руках, как смеялась, как плакала; о лёгкости первых встреч с Кешей, когда мир казался безбрежным и тёплым. Каждое воспоминание было крошечным светом, который пробивался сквозь мрак настоящего, сквозь холодные слова и взгляды, которые ранили.
Вера писала дальше, и с каждой новой строчкой её сердце становилось легче. Блокнот превращался в зеркало: не простое отражение, а зеркало, где можно увидеть себя целиком – уставшей, тревожной, любящей, но при этом сильной. Словно сама бумага впитывала её страхи и превращала их в силу.
В комнате лампа мягко светила, а тени танцевали по стенам, словно понимая: каждая её мысль – это шаг к внутренней свободе. Вера закрыла глаза и почувствовала, как напряжение медленно спадает, как будто сама реальность смягчается, позволяя дыханию стать спокойным, а душе – чуть легче.
Воспоминания рвались на поверхность, словно подводные камни, готовые обрушиться на её судно. Она вновь оказалась на той вечеринке. Шум голосов, аромат свежеиспечённых пирогов и табачного дыма витал в воздухе. Смешанные разговоры, звуки смеха и музыка – всё это сливалось в звуковую гамму, от которой голова начинала болеть. Она чувствовала себя изолированной, словно стекло отделяло её от этого мира.
Кеша стоял в центре компании, улыбающийся и лёгкий, его взгляд блуждал по лицам, как охотничий свет, который ищет цель. И вдруг его голос прорвался сквозь шум:
– Вера, а почему ты так растолстела?
Голос был мягким, весёлым, почти неуловимым в этом хоре звуков, но в нём звучала непонятная тревога, словно Кеша не просто задавал вопрос, а ждал подтверждения реакции. Комната на мгновение взорвалась смехом. Кто-то поддержал шутку, кто-то просто нахмурился от неловкости. Вера почувствовала, как все глаза обернулись к ней.
Кровь горячо хлынула в её щёки, и от неловкости улыбка натянулась на её лице, как маска.
– Наверное, пироги твоей мамы, Кеша, слишком вкусные, – сказала она, пытаясь поддержать общее настроение, но в её голосе проскальзывала слабость.
Смех раздался ещё громче, и, хотя он был лёгким и беззлобным, внутри у Веры всё сжалось. Это была ножом нанесённая рана – глубокая, но незаметная. Она вновь ощутила, как застряла в этом пространстве, в этих словах, в этой игре, где она была просто частью декорации.
Страдание, словно неуместный гость, обвило её душу. Писать было единственным способом справиться с ним.
Вера снова взглянула на блокнот и, не отрываясь, продолжила писать:
"Я знаю, что он говорит это несерьёзно, но от этого не легче. Я его жена. Я мать его детей. Разве так трудно проявить хоть немного уважения? Иногда я думаю: что со мной не так? Почему я так остро всё воспринимаю? Но разве можно не воспринимать? Каждое его слово как нож, проникающий всё глубже. Я не могу говорить с ним об этом, потому что боюсь, что он отмахнётся, как от пустяка. Я сильная, но как же мне хочется, чтобы он хотя бы раз понял, как мне больно."
Ручка легла на бумагу. Слова висели в воздухе, как тяжёлые капли дождя перед штормом. Вера откинулась на спинку стула, и её глаза закрылись. Сердце снова билось слишком быстро, и в тишине комната наполнилась дыханием и звуками, словно оживая под её эмоциями.
Ветер завыл за окном, пробираясь сквозь сучья деревьев, которые скрипели и шуршали, словно шёпотом рассказывая друг другу свои старые истории. В этом шёпоте было нечто тревожное, неуловимое. Вера открыла глаза и взглянула на старое треснувшее зеркало, которое стояло в углу.
Трещина в нём была почти невидимой в обычный свет, но теперь, когда лампа создавала длинные и мягкие тени, трещина казалась живой, пульсирующей, как живая рана, искажая отражение её лица. Она не могла оторвать взгляд.
Плач Иоана из кроватки разорвал её мысли. Это был небольшой, невзрачный звук, но Вера услышала его так остро, как будто он был её собственным сердцем, которое внезапно прокалывали острые иглы.
Вера подхватила Иоана на руки, его маленькое, мягкое тельце было горячим от слёз и напряжения. Её шёпот был тихим, утешительным:
– Тихо, мой маленький. Всё хорошо.
Сердце билось в унисон с его всхлипываниями. Руки её дрожали, когда она прижимала его к себе. Вера ощущала, как его глазки смотрят в темноту, как будто он видел нечто большее, чем просто её лицо, и это чувство заставляло её ещё сильнее сомневаться в том, что было в её жизни и с кем.
Было что-то в этом взгляде – неясное, невысказанное, и Вера чувствовала, как будто он видел весь её страх, все её сомнения, всю ту тишину, которая заполнила её душу.
Тишина и ветер, и трещина в зеркале. Всё было в этом взгляде.
Когда Вера успокоила Иоана и он, наконец, задремал, её взгляд снова упал на блокнот, который лежал на тумбочке, словно напоминание о скрытых страхах и не озвученных словах. Она не стала его открывать, боясь, что вновь наткнётся на эти удушающие слова, словно маленькие иглы, которые скрещивались в её голове. Вместо этого, с лёгким движением, выключила лампу, и комната провалилась в густую тьму, похожую на мягкую, невидимую ткань, которая обвила её с всех сторон.
Легла на постель, прижимая к себе тёплый плед, но ощущение тяжести, словно непрошеный гость, не покидало её. Одиночество было как старое одеяло, сжатое на горле, которое не давало дышать глубже. Его плотность сковывала, а каждое движение превращалось в борьбу. Все стены вокруг, даже самые уютные, теперь казались ей темнее, чем должны быть.
В тишине, когда её собственное дыхание звучало слишком громко в тени, Вера почувствовала нечто странное – неуловимое, размытое, как шёпот на грани сна и яви. Что-то было рядом, или, может быть, где-то далеко. Как будто кто-то смотрел на неё – не с презрением, но с нежной грустью, почти неслышной, будто это было отражение собственной боли, зажатое в куске ветра и звуков. Или, может быть, это было сочувствие. Слишком неуловимое, чтобы понять, слишком далёкое, чтобы увериться.
Её разум был хрупким, и мысли снова рвались в разные стороны. «Как можно жить в этом состоянии и не потерять разум? Как пережить эту пустоту и горечь, которая словно осела в лёгких?» Вера мучительно подумала о том, может быть, занять себя чем-то – рисованием, например. Но и эта идея тут же разбилась о реальность. В их доме, который был маленьким и тесным, не было ни места, ни инструментов, ни даже спокойствия для того, чтобы начать новое занятие.
Мысли закружились, как тёплый и непрошеный вихрь. Она вспомнила, как её мама справлялась со стрессом и болью – сила матери, воплощение спокойствия даже в самые отчаянные времена. Но её собственный опыт казался таким размытым. Она помнила, как окружение пыталось решать проблемы: кто-то уходил в работу, кто-то пытался скрыть страхи за стенами, кто-то просто продолжал жить, будто ничего не происходило. Но Вера ощущала, что выход из этого состояния был ускользающим, как призрак на грани сна.
А может, это было просто в ней? Почему так сложно выбраться из этого? Почему всё, что было на поверхности, вдруг казалось таким пустым и хрупким? Психология в то время не была спасательным кругом, каким могла бы стать сегодня. Телефонные горячие линии, которые Вера считала бесполезными, не могли дать ответ, потому что её собственное состояние было неуловимо, невнятно, даже для самой себя.
Она даже не могла точно сформулировать свои ощущения. Их можно было описать лишь как комок страха и одиночества, который сжимал грудь, словно ржавое кольцо, не давая дышать глубже. «Почему? Почему нельзя было просто избавиться от этого? Почему каждое слово, каждый взгляд, каждый разговор оборачивались кнутом, который снова и снова бил по сердцу?» – думала Вера.
Её горло ощущалось пустым, как будто все слова, все надежды, все мечты улетели вместе с молчанием. Но было что-то ещё – слабая, но не исчезающая надежда. Она была уверена в своём внутреннем огне, в своём умении выстоять, в своей способности справиться самостоятельно. Вера считала себя достаточно сильной, чтобы не обращаться за поддержкой, чтобы не искать успокоительные таблетки, не связываться с чужими проблемами, не искать спасения в голосах незнакомцев на другом конце провода.
Тлела эта надежда, едва заметная, как неугасимый огонь в глубине сердца. Она знала, что может преодолеть это сама, что сможет вырваться из этого тумана и снова почувствовать себя живой, полноценной. Однако в этот момент неуверенность разъедала её изнутри. Словно тёплая влага, мысли о слабости и одиночестве снова оплетали её разум, и уверенность начинала угасать.
Может быть, всё было слишком сложно? А может, просто иногда люди должны позволять себе быть слабыми, позволять себе просить помощи? Но это было невозможно. Вера не могла принять, что могла бы просто сломаться. Нет, она была сильной, и это было тем последним, на что можно было опираться.
Тишина продолжала обвивать её, пряча все мысли, все страхи, все сомнения в мягкую и невидимую пелену. Она лежала на спине, нащупывая спокойствие, которое не приходило, всматривалась в потолок и думала о том, как иногда одиночество обрушивается на человека, словно древний камень, который невозможно оттолкнуть.
Кеша в этот момент тоже чувствовал отчаяние. Оно было таким же неуловимым и острым, как лезвие, которое обрезало его мысли и эмоции изнутри. Не о такой жизни он мечтал, когда был моложе и полон амбиций, когда всё казалось простым и достижимым. Теперь, вместо яркости и драйва, он ощущал лишь усталость, обрамлённую в серые стены и детские крики. Вера, изменившаяся, с потускневшей привлекательностью и блекнувшими глазами, была для него как тень из другого фильма, из другой реальности – знакомая, но чужая.
Эта усталость словно наполнила её душу и тело, оставляя на лице следы бессонных ночей и бесконечной борьбы. Кеша видел это в каждом её взгляде, в каждом жесте, даже в том, как она откидывала волосы с лица или как её плечи чуть сутулились при каждом новом дне. Эта живописная обыденность, превращённая в рутину, казалась ему ловушкой, в которой и он, и она оказались, не сумев найти выход.
Двое детей, Кэти и Иоан, росли быстро, словно стремясь вырваться из подчинения правил и норм их маленькой жизни, но они по-прежнему требовали внимания, заботы, поддержки. Кеша ощущал, как их требования превращаются в щупальца, вытягивающиеся из него, проникающие в каждую свободную клеточку и тянущие к нему, словно бесконечный океан потребностей и вопросов. И хотя Кэти и Иоан были самостоятельны в своём детском мире, даже их маленькая независимость была обманчивой. Они всё ещё искали опору, и опорой должны были быть именно он и Вера.
Кеша иногда смотрел на обстановку вокруг и вспоминал, как детство прошло в большом, светлом доме с высокими потолками и верандами, где каждый уголок был полон жизни и шумов, где родители могли позволить себе создать среду, не похожую на этот маленький, душный, обыденный дом. Обстановка здесь, крошечная и простая, казалась более похожей на дом детства Веры, чем на то место, где он вырос. Здесь не было роскоши, ни уверенности, ни пространства. Только стены, голые и простые, и духота, которая давила, сковывала, не давая дышать.
Кеша стоял на кухне после вечернего кормления, с кружкой чая в руке, и думал о том, как они оказались здесь, в этой клетке из обязанностей и тяжести, словно бы каждый день был одним и тем же, похожим на предыдущий, но с каждым разом, более изматывающим и удушающим. Он смотрел на кружку, как будто пытался разглядеть ответы в её простом, жидком отражении, и не находил ни одного.
Его душа была скована страхом. Страхом не справиться, страхом потерять веру в себя, страхом того, что их семья продолжит существовать в этом замкнутом мире, в котором уже не было ни мечтаний, ни надежд. Кеша боялся, что если бы он и Вера не могли найти ключ от своих чувств и проблем, если бы не нашли способ справиться со своей усталостью, то однажды это могло бы привести к тому, что они просто перестанут понимать друг друга, перестанут видеть друг друга.
Всё было слишком тяжело, и иногда Кеша думал: «Может, это и есть взрослая жизнь? Скучная, неумолимая, полная серых дней и разочарований?» Но он не мог остановиться. Он не мог бросить Веру, детей и всё, во что ещё верил. Он был привязан к ним, как к узлам на старом канате, которые никак нельзя развязать.
В эти моменты Кеша чувствовал, как его собственные мечты, амбиции и стремления умирают, постепенно, незаметно, как падающий лист, который никто не заметит. Но лист был тяжёлым, и каждый раз, когда он падал, Кеша чувствовал, как в его душе возникает маленький, едва уловимый крик.
Вера и Кеша продолжали жить вместе, продолжали воспитывать Кэти и Иоана, которые теперь становились взрослее и требовательнее. Их детский смех и крики, их непонимание и наивность были их маленьким миром, их способом существовать, но и способом держать родителей в постоянном напряжении. Вера и Кеша ощущали, как они снова и снова сталкиваются с обрывками своих чувств, со страхами и усталостью. Но каждый раз, вместо того чтобы останавливаться и разбираться, они продолжали идти вперёд, словно в этом движении можно было найти ключ к спокойствию.
Однако отчаяние не исчезало. Оно пряталось в каждом взгляде, в каждом жесте, в каждом новом дне. Неизвестно, как долго они могли продолжать так. Неизвестно, как долго могли не замечать, как терялись в бесконечном кругу обязательств и невысказанных слов.
Кеша сжимал кружку крепче, будто пытаясь выпустить через неё всю эту боль и напряжение, и в этот момент ему казалось, что они потерялись. Они были одни в своей маленькой квартире, в этом мире, который перестал казаться их домом, но который они продолжали называть так из привычки, из страха, из любви и отчаяния.
Ночь была тёплой и лёгкой, когда Кеша и Вера шли по освещённым улицам после дня рождения у Весельчаковых. Их смех на празднике, разговоры, музыка – всё осталось позади, как яркая сцена, на которой они играли свою роль: идеальная пара, семья, у которой всё хорошо. На людях они были непробиваемы. Вера чувствовала это остро: каждый взгляд Кеши, каждое его прикосновение на празднике – игра, но в ней мелькало и то, что она так давно ждала: ощущение нужности, нужности ему.
Когда они направлялись домой, к ним приблизился мужчина, слегка неуверенный, с запахом алкоголя. Он улыбнулся, говорил комплименты, говорил о том, как прекрасна Вера. В её груди забилось маленькое, яркое чувство удовольствия – приятность, что кто-то видит её, ценит, признаёт красоту, а Кеша слышит это, может почувствует её ценность. Она улыбнулась и тихо ответила: «Спасибо».
Но вместо того, чтобы отозваться, Кеша сделал вид, что не слышит. Этот холодный жест словно пробежал ледяной стрелой через её тело. Сердце Веры сжалось, но она оставалась спокойной, играя роль жены, которая «всё контролирует».
Дом встретил их тишиной, почти искусственной, будто стены сами пытались удержать мир от хаоса. Вера ещё пыталась держаться, но внезапный удар по щеке, резкий и болезненный, обрушился на неё, как гром среди ясного неба. Его слова – грубые, унижающие, словно ножи – отрезали мгновения радости и гордости, которые она носила с собой: «Женщина лёгкого поведения!»