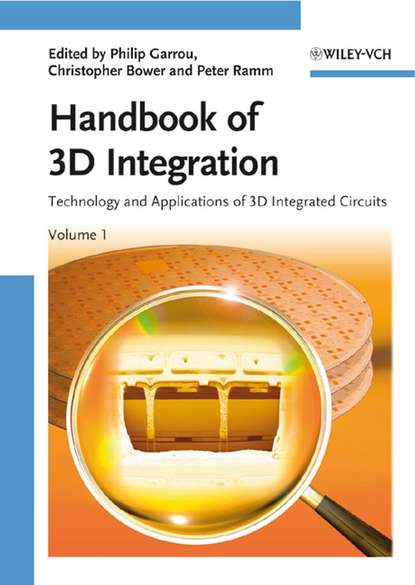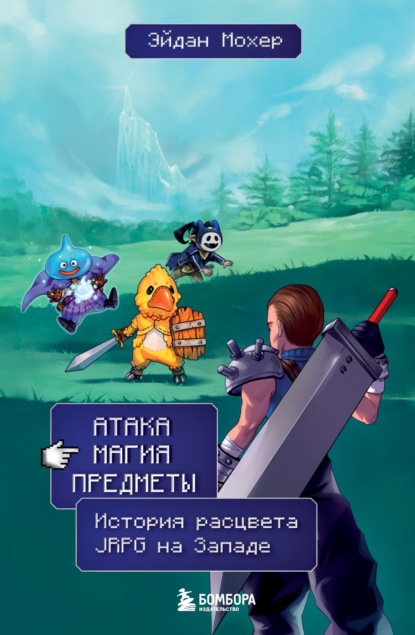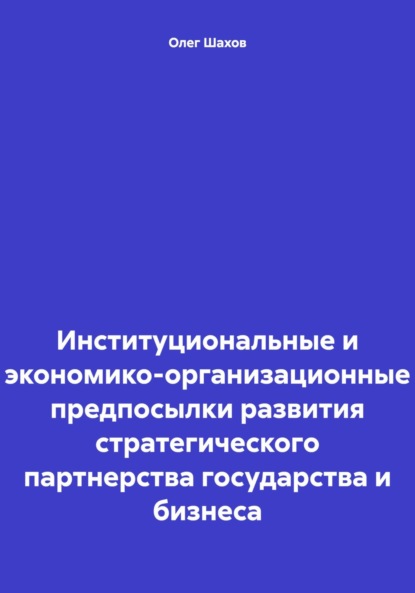Эхо си-диеза (на аллеях дорог жизни)

- -
- 100%
- +
Это был мертвец.
Тело, аккуратно уложенное в склепе, под стеклом, в полумраке. Лицо было восковым, неподвижным, неестественно освещенным. Маленькая фигура в темном костюме казалась хрупкой, почти кукольной. Пуленепробиваемый саркофаг не делал картину менее жуткой; он лишь подчеркивал искусственность, законсервированность этого сна. Саркофаг стоял на возвышении, окруженный невысокими перилами, создавая ощущение сцены или алтаря в этом подземном храме. Черно-красные стены из полированного камня поглощали свет и звук, усиливая ощущение погружения в склеп, на кладбище. Это был не памятник жизни, а памятник смерти. Вечной, застекленной, вывернутой на показ.
Кирилл Белов, чью руку сжимал Саша, замер, завороженный. Его глаза, широко раскрытые, отражали тусклый свет саркофага. На его лице было чистое, почти религиозное благоговение. Он смотрел не на мертвеца, а на Икону. На Миф.
Витя Мицкевич, шедший за Сашей, не выдержал гнетущей тишины. Он наклонился к уху Саши, его шепот прозвучал как артиллеристский залп в этой тишине:
– Смотри-ка, дедушка… спит крепко. Никакая перестройка не разбудит…
Вожатый, шедший рядом, резко, беззвучно шикнул, бросив на Витю уничтожающий взгляд. Витя сморщился и притих.
Максим Степанов, позади, смотрел не на саркофаг, а вверх, на герб СССР, выложенный из темного камня на стене над входом в следующий зал. Серп и молот, обрамленные колосьями, казались здесь, в этом полумраке, не символом могущества, а тяжелой, каменной печатью. Его лицо было бесстрастным, лишь легкая брезгливость тронула уголки губ. Ему было скучно. Слишком тихо. Слишком мертво.
Игорь Новиков и Витя Гришин, впереди Кирилла, перешептывались, не сводя глаз с освещенной фигуры.
– Настоящий… – с придыханием прошептал Игорь. – Основатель…
– Величайший… – кивнул Витя Гришин, стараясь вложить в шепот как можно больше пафоса. – Дух его… тут… – Он опять ткнул себя в грудь.
Валера Федоренко, забыв и про смех, и про грязь на коленках, смотрел широко открытыми глазами. Но в его взгляде не было страха, как у Саши, и не было благоговения, как у Кирилла. Была гордость. Глубокая, искренняя, детская гордость. За страну. За людей. За то, что он, Валера Федоренко, пионер, стоит здесь. Ему вдруг страстно захотелось стать взрослым, сильным, умным. Чтобы приносить пользу. Чтобы быть достойным этого. Его рука непроизвольно сжалась в кулак.
Гена Беляев шел степенно, его доброе лицо было сосредоточено и торжественно. Он смотрел на саркофаг с тем же уважением, с каким смотрел бы на могилу героя. Для него это был акт памяти. Почтительности. Он чувствовал тяжесть истории, лежащей перед ним, и принимал ее всей душой.
Рома Мишин и Илья Васин, сзади, не могли удержаться даже здесь. Они спорили, их шепот, как жужжание раздраженных шмелей, нарушал тишину.
– Видишь, технология сохранения… – шептал Рома, указывая глазами на саркофаг. – Достижение науки! Вот что значит советская мощь!
– Не в технологии дело! – горячо, но тихо парировал Илья. – В значении! В символе! В том, что он здесь, с нами! Его дух!
– Дух не нуждается в холодильнике! – фыркнул Рома, чуть громче. Ближайший вожатый обернулся и сделал предупреждающий жест. Спор затих.
Девочки – Таня, Лена, Оля – шли, прижавшись друг к другу. Их лица были бледны от волнения и полумрака. Они смотрели на восковое лицо с тихим ужасом и странным почтением. Таня крепко держала Лену за руку. Оля прикусила губу. Банты их казались призрачно белыми в этом сумраке.
Саша Камнев не мог оторвать глаз. Страх, холодный и липкий, поднимался из живота, сжимая горло. Этот восковой лик под стеклом… Эти маленькие, аккуратно сложенные руки… Этот полумрак склепа… Это была не жизнь, завещанная партией. Это была смерть. Консервированная, выставленная напоказ. Идеал, превратившийся в мумию. Вера споткнулась о реальность холодного, неподвижного тела в гробу. Он чувствовал, как дрожит его рука, сжимающая руку Кирилла. Он чувствовал, как ледяная волна этого страха накрывает его с головой. Мертвец. В сердце страны. В сердце их веры. Мертвец в стеклянном гробу был зеркалом умирающей эпохи, ее застывшим, восковым предзнаменованием.
Они медленно обошли саркофаг по периметру. Камень стен впитывал их шаги, их дыхание, их мысли. Тишина давила. И вот они снова у выхода. Еще один взгляд назад – на освещенный островок с застывшей фигурой в центре каменного моря – и они шагнули навстречу свету дня.
Яркий майский свет, хлынувший снаружи, ударил по глазам, заставив зажмуриться. Воздух снова наполнился городскими звуками – гулом, голосами, скрежетом где-то вдали. Они стояли у выхода из Мавзолея к некрополю у кремлевской стены, над Красной площадью, как будто вынырнув из иного мира. Вздох облегчения, невольный, коллективный, вырвался у многих. Даже председатель дружины вытер ладонью лоб.
Точно отмечая их возвращение к жизни, к шуму, к движению, гулко, величаво пробили куранты Спасской башни. Бой колоколов, чистый и мощный, покатился по площади, заполняя пространство, смывая остатки склепного полумрака. Бам… Бам… Бам…
Они стояли, слушая, маленькие фигурки с алыми галстуками на фоне громады Кремля и бескрайности Красной площади. Они только что видели мертвое сердце эпохи. Теперь они слышали живой, бьющийся пульс страны. Но в этом бое курантов, таком знакомом и таком московском, взрослому слуху слышался уже не только отсчет времени, но и отсчет уходящей эпохи.
– Отряд! Направление – станция метро «Площадь Революции»! Шагом марш! Соблюдать порядок и дисциплину!
Они тронулись вниз по ступеням Мавзолея, назад, к бурлящей жизни Красной площади, но теперь они были другими. Алые галстуки по-прежнему ярко алели, значки сверкали на солнце, но внутри каждого что-то сдвинулось, переоценилось. Торжественность церемонии в музее смешалась с леденящим полумраком усыпальницы, создавая странный, двойственный настрой.
Кирилл шел рядом с Сашей, его пальцы то и дело касались шелковистой ткани галстука, потом гладили холодный металл значка. На его лице сияла чистая, неомраченная гордость.
– Видел, Камнев? – прошептал он, его глаза сияли. – Самого! Настоящего! Это же… это же на всю жизнь! – Его восторг был таким искренним, таким детским, что даже сквозь собственный холодный комок в горле Саша почувствовал что-то теплое. Он лишь кивнул, не находя слов. Образ воскового лица под стеклом, маленьких, сложенных рук, стоял перед его глазами ярче, чем портреты в музее. Мертвец. Слово отдавалось эхом в пустоте его прежней веры. Он молчал, чувствуя, как легкая дрожь все еще пробегает по ногам.
– Эх, сейчас бы мороженого! – громко вздохнул Витя Мицкевич позади них, пытаясь вернуть привычную легкость. – После такого напряжения – самое то! «Пломбир» в вафельном стаканчике! – Он облизнулся, нарочито громко. Его шутка была как спасательный круг, брошенный в воду тяжелых мыслей.
– Да! – тут же подхватил Валера, уже оправившийся и от падения значка вожатого, и от гробовой тишины Мавзолея. Его энергия била ключом. – И газировки! «Буратино»! – Он попытался затянуть гимн, но тут же споткнулся на словах: «Взвейтесь кострами… э-э… синие…» – и замолчал, смущенно хихикнув. Таня и Лена фыркнули в ответ.
Игорь Новиков и Витя Гришин, шагая чуть впереди, снова мерялись значимостью.
– Я, считай, салютовал ему лично! – заявлял Игорь, кивая назад, к ступеням Мавзолея. – Самому Ильичу! Вот так! – Он резко вскинул руку в пионерском приветствии, чуть не задев прохожего.
– А я духом ближе был! – парировал Витя Гришин, снова тыча себя в грудь. – Чувствовал его заветы! Прямо тут, сердцем! Я, наверное, буду комсомольским вожаком! – Игорь презрительно сморщил нос.
Гена Беляев шел степенно, его доброе лицо было задумчивым. Он заметил, что у Лены значок чуть перекосился на фартуке.
– Дай-ка поправлю, – мягко сказал он, остановившись на секунду. Его большие, надежные руки аккуратно поправили застежку. – Вот так, ровненько. Теперь красавица-пионерка. – Лена улыбнулась ему с благодарностью, чуть покраснев.
Рома Мишин и Илья Васин, как всегда, углубились в спор, но теперь их тон был менее категоричным, будто тень Мавзолея слегка приглушила пыл.
– Главное – наследие, – настаивал Рома, размахивая рукой. – Как он управлял, как мыслил! Наука управления!
– Главное – идея! – шептал Илья, оглядываясь, не слышит ли вожатый. – Мировая революция, справедливость! Без идеи наука – ничто!
Их шепот, как назойливые мухи, жужжал на краю общего гула колонны и городского шума.
Максим Степанов шел молча, но теперь его наблюдательный взгляд скользил не по брусчатке, а по людям. По прохожим, спешащим куда-то по своим делам. По лицам, отражавшим обыденную жизнь большого города. Его лицо было непроницаемым, но во взгляде читался вопрос: как эта обыденность сочетается с тем, что они только что видели под гранитными сводами?
Колонна, свернув с Красной площади, двигалась обратно по площади Революции, к знакомому зданию Музея Ленина и дальше, к вестибюлю метро. У газетного киоска, мужчина в сером плаще листал свежий номер «Правды». Ветер шевельнул страницу, и несколько слов мелькнули крупным шрифтом: «…процесс перестройки…», «…гласность…». Мужчина покачал головой, что-то негромко буркнул себе под нос и сунул газету под мышку. Дети, увлеченные своими галстуками и значками, не прочитали заголовков. Но взрослый взгляд уловил в этом качании головы, в этом бурчании, зерно сомнения, редкое еще в 1987-м, но уже пробивающееся сквозь толщу официального оптимизма.
В метро, у знаменитых бронзовых фигур революционных солдат, матросов и рабочих, украшавших платформу, кучка взрослых оживленно о чем-то спорила. Обрывки фраз долетели до колонны:
– …а мясо говорят, опять по талонам с нового месяца…
– …это ж сколько можно? Реформы реформами, а в магазинах – шаром покати…
– …да ладно тебе, все наладится, Горбачев же взялся…
– …взялся… а очередь за колбасой длиннее, чем к Мавзолею…
Дети прошли мимо, не вникая в смысл. «Талоны», «колбаса», «реформы» – это были слова из мира взрослых, скучного и непонятного. Валера Федоренко только криво усмехнулся:
– Колбасы хотят… А мы Ленина видели! Вот это да!
Знакомые бронзовые фигуры – матрос с гранатой, пограничник с собакой, студентка с книгой – встречали их, немые свидетели уходящего дня и уходящей эпохи. Председатель дружины остановил колонну.
– Молодцы, пионеры! – сказал он, и в его голосе снова появились ноты утренней торжественности, но теперь они звучали чуть натужно. – Сегодня вы совершили важный шаг. Вы поклялись быть достойными. Вы удостоились великой чести. Помните этот день! Несите звание пионера с честью!
Где-то там, в гранитной глубине, лежал восковой вождь. А здесь, сейчас, были просто дети, уставшие, взволнованные, счастливые и немного растерянные, с новыми алыми галстуками на груди. Они ехали домой. В свой далекий, спальный район, где пахло рекой, где были их дворы, их игры. Строгино – их королевство детства, казавшееся сейчас таким далеким и таким надежным укрытием от всех мертвецов в мавзолеях и тревожных шепотов взрослых. Эпоха трещала по швам, а они думали о мороженом и о том, как покажут значки родителям. Детство и история шли рядом, еще не понимая, что их пути вот-вот разойдутся.
Глава 1
Рассвет пятницы 28 марта 2025 года вполз в кабинет Валерия Федоренко, как стыдливый вор, не решившийся включить свет. Сквозь щели пыльных жалюзи пробивались жидкие лучи, скорее напоминающие протухший лимонад, чем солнечный свет. Воздух висел тяжело и неподвижно, пропитанный ароматами старого ковра, дешевого дезинфектора и чего-то неуловимо кислого – будто бы в углу тихо умирал забытый бутерброд с колбасой. Сам Валерий сидел за столом, уперев лоб в прохладное стекло монитора, и ощущал, как его черепная коробка методично раскалывается изнутри старательной рукой какого-то невидимого дровосека. Каждый удар сердца отдавался в висках глухим гулом церковного колокола, звонившего по его собственному здравомыслию.
Во рту царило беззаконие и запустение. Язык, толстый, ватный и совершенно непослушный, словно оброс бархатной плесенью неведомого происхождения, лежал во рту мертвым грузом. Вкус был столь же изысканным, как если бы ему предложили пожевать старый, пропитанный потом и бензином, армейский носок, найденный на дне рюкзака после десятилетнего забвения. Глаза, красные и воспаленные, словно у кролика, попавшего под раздачу в химической лаборатории, отказывались фокусироваться на мигающем курсоре пустого экрана. В ушах стоял непрерывный, назойливый звон – точь-в-точь как если бы внутри его головы застрял трамвай, отчаянно скрежеща колесами по кривым рельсам старого депо и периодически давая пронзительный гудок прямо в мозг.
– Черт бы побрал вчерашний "Юбилейный"! – хрипло пробормотал Федоренко, пытаясь оторвать голову от стекла. Это вызвало новый приступ тошноты, волной подкатившей от самого желудка к горлу. Он судорожно сглотнул, чувствуя, как по спине пробежал липкий холодный пот. – И того идиота, что его купил… – добавил он уже тише, понимая, что этим идиотом был он сам.
За дверью кабинета внезапно заурчал и захлюпал кофейный автомат. Сладковато-горький, обманчиво притягательный аромат свежесмолотых зерен просочился сквозь щели, как насмешка. Валерия скрутил новый, еще более сильный спазм. Он застонал, откинувшись на спинку кресла, которое жалобно заскрипело под его весом. Грудь сдавило невидимыми тисками, дыхание стало поверхностным и частым. Руки, лежавшие на коленях, мелко дрожали, словно пытаясь отбить какой-то неведомый, сумасшедший ритм. Он уставился на потолок, покрытый паутиной трещин, напоминавшей карту неизвестной страны. Одна из трещин упорно напоминала профиль Хемингуэя, что в нынешнем состоянии казалось Валерию зловещим знаком.
– Эх, Степа Лиходеев… – прошептал он с горькой усмешкой, вспоминая булгаковского страдальца. – Да ты просто дитя неразумное по сравнению с этим…
Внезапно мир взорвался. Неистовый, оглушительный, пронзительный вой разорвал тягучую тишину кабинета. Это заливался телефон на столе, его экран яростно мигал синим светом, освещая клочья бумаг и пятно от давно пролитого кофе. Валерий вздрогнул так, что едва не свалился с кресла. Сердце бешено заколотилось, угрожая выскочить через горло. Он посмотрел на экран. "Соколов. Следственный". Бывший коллега. Тот еще подарок судьбы.
– О, боже… – простонал Федоренко, закрывая глаза. – Опять… Копаться в архивах его проклятых дел… Вспоминать, кто где стоял в том подъезде в две тысячи восьмом… Нет уж. Отдохни, дружок.
Телефон замолчал. Валерий сделал осторожный, неглубокий вдох, надеясь, что это конец. Не тут-то было. Ровно через три секунды вой возобновился с удвоенной силой и яростью. Телефон буквально подпрыгивал на столе, его вибрация гудела в такт трамваю в ушах. Казалось, аппарат сейчас взорвется от негодования.
– А-а-аргх! – рык, вырвавшийся из горла Федоренко, больше походил на предсмертный хрип раненого зверя, чем на человеческий звук. Он швырнул ручку, которая со звоном покатилась по столу, и с трудом нашел в себе силы схватить трубку. – Да?! – прохрипел он, вкладывая в это слово всю накопившуюся за утро ярость, боль и отвращение ко всему миру.
В трубке воцарилась тишина, контрастирующая с только что царившим адским грохотом. Валерий слышал лишь собственное хриплое дыхание и тот самый трамвай, неумолчно гудящий в его черепе. Потом – голос. Голос говорил что-то. Федоренко нахмурился, его похмельный мозг с трудом цеплялся за смысл.
– …Да, – буркнул он в ответ, бровь непроизвольно поползла вверх. –Ну… да, знаю. Конечно знаю. – Голос его был хриплым, но в нем проскользнуло недоумение. Его пальцы, все еще дрожавшие, сжали пластиковую трубку так, что она жалобно затрещала.
Тишина в трубке стала густой, тягучей, как патока. Валерий уставился на пятно кофе на столе, которое внезапно стало напоминать очертания зловещего острова. Внезапно, без всякого перехода, его охватил ледяной холод. По спине пробежали мурашки, сменившие липкий пот. Лицо, еще секунду назад пылавшее от похмельного жара и раздражения, резко побелело, став землистым, как глина. Челюсть отвисла. Глаза, широко раскрытые, уставились в пустоту перед собой, но видели что-то совсем иное, страшное и неотвратимое.
– К-как?.. – выдохнул он, и это был не голос, а шелест сухих листьев. Звон в ушах внезапно стих, сменившись оглушительной, звенящей тишиной. Мир сузился до точки – до голоса в трубке.
Голос говорил снова. Монотонно, без пауз, как заведенный. Валерий не слышал слов. Он видел лишь вспышки света за закрытыми веками. Его пальцы, все еще сжимавшие трубку, онемели. Губы шевелились беззвучно.
– …Ран… – выдавил он наконец, словно кашлянул. – …Понял… – Голос сорвался. Он сглотнул ком, вставший в горле. Веки судорожно задрожали.
Пауза. Длинная. Вечность.
– …Да… – прозвучало наконец. Голос был глухим, пустым, доносящимся словно из глубокого колодца или склепа. – …Спасибо… – добавил он автоматически, без всякого смысла.
Он не положил трубку. Он просто разжал пальцы. Аппарат с глухим стуком упал на стол, подпрыгнул и замер. Воющий звук разъединения прозвучал как последний аккорд. Тишина, навалившаяся следом, была уже иной – тяжелой, гнетущей, абсолютной. Он больше не чувствовал похмелья. Не потому, что прошло. Потому что стало неважно. Валерий откинулся на спинку кресла, которая снова жалобно заскрипела. Он закрыл глаза. Перед ними, на черном фоне, плясали огоньки. Трамвай в голове замолчал.
Он сидел так минуту. Или час. Время потеряло смысл. Потом, без рывка, плавно, как автомат, он наклонился вперед. Дрожь в руках исчезла. Пальцы, холодные и уверенные, нашли телефон на столе. Подняли его.. Большим пальцем он листал контакты. Мелькали имена, должности, прозвища… Он нашел нужное. Палец завис над кнопкой вызова на долю секунды. Потом нажал. Твердо.
За окном завыл ветер, гоняя по асфальту прошлогодние листья и пустые пакеты. Март цеплялся за жизнь, но дыхание апреля уже чувствовалось в этом сыром, тоскливом холоде. Валерий поднес трубку к уху, слушая длинные, мерные гудки.
***
Кабинет Александра Камнева напоминал хирургический бокс: безупречно белые стены, холодный блеск стеклянного стола, стерильный воздух, пропущенный через фильтры. Даже пыль здесь, казалось, боялась осесть не по регламенту. На двери – строгая табличка:
ДИРЕКТОР ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ И АУДИТУ
А. Д. КАМНЕВ
Сам Александр Дмитриевич сидел, откинувшись в кресле из черной эко-кожи. На экране ноутбука колыхались крошечные лица участников Zoom-совещания. Его собственное изображение передаваемое камерой казалось ему чужим: глубокие тени под глазами, резкие складки у рта, жесткая линия сжатых губ. Голос, звучавший из колонок, был его собственным – ровным, методичным, как скальпель:
– …Отклонение в три процента на этапе внедрения API недопустимо, Петр Сергеевич. Это не "погрешность", а следствие неотработанного ТЗ. Ваша команда углубилась в детали? Нет. Вы скользили по поверхности, как конькобежец по тонкому льду.
Он сделал паузу, давясь горечью кофе, остывшего еще час назад. Похоже, барриста внизу пережарил зерна – напиток отдавал гарью. "Довести до цели любой ценой", – пронеслось в голове его же собственное кредо. Цена сейчас – ком в горле и свинцовая усталость за ребрами.
Внезапно на столе, рядом с клавиатурой, вздрогнул и запел тихим вибрационным гулом смартфон. Экран осветился именем: "Федоренко В.С.". Александр едва заметно отвел взгляд от монитора. Валера? Сейчас? Брови поползли вверх, образуя две острые черточки недовольства. Легким движением пальца он перевернул телефон экраном вниз. Вибрация глухо булькнула о столешницу, словно тонущий жук. Голос Камнева не дрогнул:
– …Риск-факторы должны быть не "учтены", а предупреждены. Переделать матрицу до пятницы. Всем – спасибо.
Он выключил камеру и микрофон одним кликом. Лица в Zoom исчезли, оставив после себя мертвую тишину и пустой экран с логотипом холдинга – стилизованным шестеренкой, давящей облако. Телефон на стеклянной крышке стола снова загудел. Настойчиво. Назойливо. Как зубная боль.
– Черт, – беззвучно выдохнул Камнев.
Он поднял аппарат. Палец завис над кнопкой приема. Пять лет? Шесть? Валерий звонил только по делу. Или когда было совсем худо. Александр нажал "вызов" и поднес трубку к уху, натягивая на лицо маску бодрости. Голос звучал чуть громче, чем нужно, и неестественно ровно:
– Валер? Живой? – легкая шутливая интонация, отработанная годами. – Прости, не мог снять, рубился с аудиторами. Ты как там, крепок?
В трубке – тишина. Не пустая, а густая, тревожная. Потом хриплый выдох, будто человек на другом конце тащил что-то тяжелое.
– …Саш… – голос Федоренко был глухим, сплющенным. – Не… не очень.
Александр насторожился. Не "плохо", не "паршиво". "Не очень". Как в отчете о проваленном проекте, который стыдно показывать. Он инстинктивно выпрямился, пальцы сжали край стола:
– Что стряслось? – спросил он, отбросив бодрячок.
Еще пауза. Камнев услышал, как где-то за окном проехал грузовик – глухой гул сквозь тройные стекла.
– …Витька… – имя прозвучало как удар тупым предметом. – Мицкевич. Погиб.
Александр замер. Не дыша. Перед глазами мелькнуло: смешной паренек, корчащий рожицы на школьной сцене. "Фикус".
– Витька?.. Фикус?
Голос Валерия казался далеким, словно доносился из туннеля
– Он самый.
– Да ну на… Как?.. – голос оборвался, и наступила короткая пауза. Камнев уставился в точку на столе, потом медленно встал и подошёл к окну.
– Два дня назад, – продолжил Федоренко, будто нехотя. – На СВО. Под миномёт попал. Не сразу, ещё в госпиталь успели… но не вытянули.
– Чёрт… – прошептал Камнев. – Я и не знал, что он туда поехал. Он ведь… ну, он же не военный.
– Журналистом был. По заданию. Какой-то отчёт писал. Или репортаж. Не знаю.
Тишина повисла над линией.
– Жена уже в курсе?
– Да. Тело пока в пути. Похороны, похоже, через неделю, в следующую пятницу… на Перепечинском.
Камнев машинально сглотнул. В горле стоял ком – тот же, что мешал проглотить утренний кофе. Он перевел взгляд на экран ноутбука. На заставке сияла диаграмма успешного квартала – зеленые столбики росли вверх. Идиотизм.
– Понял, – сказал он, и его собственный голос прозвучал чужо, сухо, деловито. – Надо… всех собрать. Кто сможет.
– У меня… не все номера, – хрипнул Федоренко.
– Давай координируй кого можешь ты, – Александр говорил четко, как на планерке. – Кого смогу – я. Гришина, Белова… Мишина. Сообщи детали, когда будут.
– Ладно… – в трубке послышался еще один тяжелый вдох. – Позже.
Связь прервалась. Камнев медленно опустил телефон на стол. Экран погас. Он сидел неподвижно, глядя сквозь стеклянную стену кабинета на небо – серое, низкое, давящее. Где-то там, за облаками, летел гроб с телом парня, который когда-то смешил их всех до слез.
Рука сама потянулась к мышке. Курсор ожил, тыкаясь в иконку отчета. Александр щелкнул. На экране поплыли столбцы цифр, графики, красные и зеленые маркеры. Он уставился на них, но видел только черную рамку гроба и лицо Валерия в телефонной трубке – серое, как пепел.
"Довести до цели любой ценой", – снова пронеслось в голове. Но какой ценой оплачивались эти похороны? И кому теперь предъявлять претензии по качеству?
Он резко отодвинулся от стола. Кресло жалобно скрипнуло. За окном повалил мокрый снег – март не сдавался апрелю без боя.
***
Архив музея «Огни Москвы» походил на законсервированную эпоху. Воздух висел густой и неподвижный, пропитанный пылью веков и кисловатым запахом разлагающейся бумаги. Полутьму разрезал лишь одинокий луч от люминесцентной лампы, мерцавшей где-то под потолком. Он падал на Кирилла Белова, распластавшегося на старом диване с просевшими пружинами. Диван стонал под каждым его движением, как старый пес.
Глаза Белова были закрыты. Не сон – отключка. Бессознательный побег от серости бытия. Лицо, бледное и безучастное под слоем архивной пыли, казалось вылепленным из воска. Рука свесилась с дивана, пальцы почти касались пола, уставленного картонными коробками. На них чернели кривые буквы: «Переписка райкома. 1987-89».
Тишину взорвал телефон. Резкий, пронзительный, как сигнал тревоги в усыпальнице. Звук бился о стеллажи, заставленные папками, и возвращался жалобным эхом.
Кирилл не шевельнулся.
Звонок оборвался. Наступила звенящая пауза. Пылинки, взметнувшиеся в воздух, медленно оседали на его взъерошенные волосы, на потертую куртку.
Телефон завыл снова. Упрямо. Назойливо.
Медленно, как под водой, Белов приоткрыл глаза. Взгляд был мутным, лишенным фокуса. Он уставился в серый потолок, покрытый паутиной и трещинами. Потом, с трудом оторвав голову от жесткого валика дивана, потянулся к карману рваных джинс. Движения были вялыми, лишенными энергии. Вытащил смартфон. Экран светился именем: «Саша Камнев».