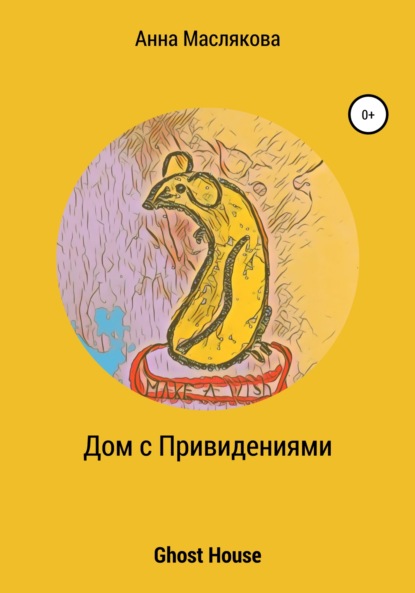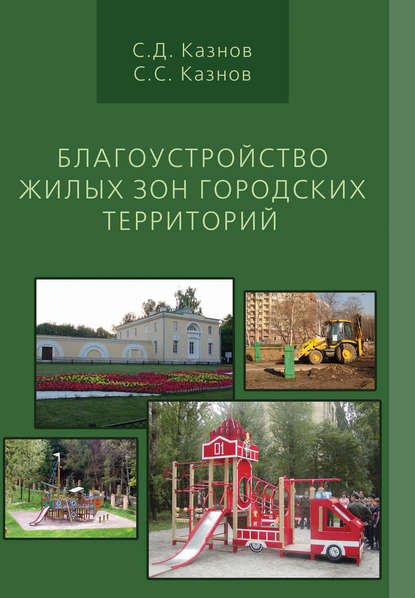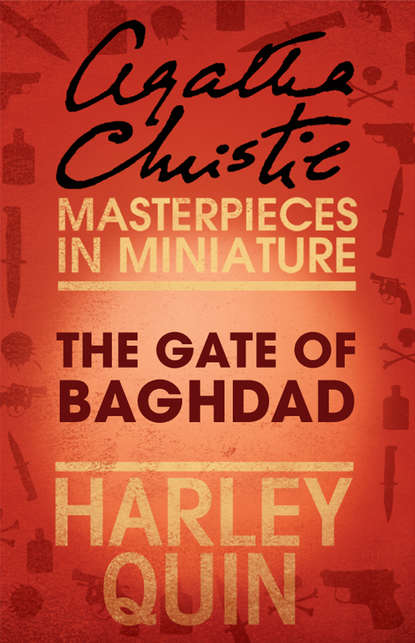Противотанкист. Книга 1
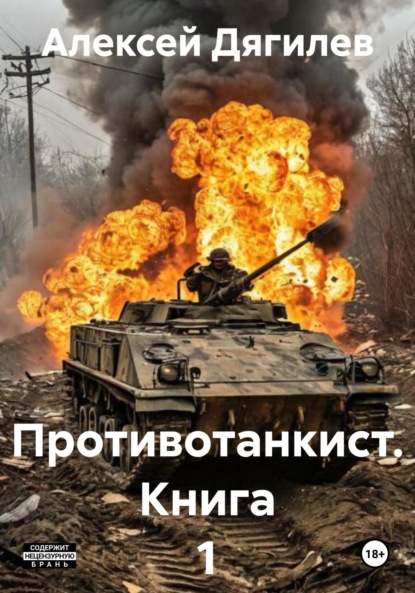
- -
- 100%
- +
– Это ж на каком складе у нас землянику выдают, причём свежую, чтобы такие ухабаки из неё нектар варили, – польстил я повару. На что тот, ухмыляясь в усы, ответил:
– То не выдають, то мы сами добывам.
– И где, если не секрет?
– А то надо у нашей дохторши спросить, Нины Павловны, да у ейной фельшерицы Жанны. Это они ещё на вчерашней днёвке добыли, пока вы усе дрыхли.
– Ну а чего тогда вчера кисель был? Да и потом чай.
– Это всё Жанка эта скаженная, прибежала с полным котелком ягод, говорит, дядя Петя добавь в компот, спохватала у меня ведро и убежала. Я было хотел сказать, что уже кисель заварил, да где там, только отвернулся суп помешать, а её уж и след простыл.
– Тогда причём тут компот? – недоумеваю я.
– А ты слухай и не перебивай старших. Раз девочки захотели кампоту, будет им кампот, чё мне жалко чё ли!
Повару было лет 38, скорее всего, взяли из запаса.
– Вот я и взял резервный котёл, убрал кисель, а на его месте вскипятил воду. И когда Нина с Жанкой притащили полное ведро ягод, я уж тот взвар доваривал.
Повар сладко потянулся, зевнул и продолжил:
– Потом снял с огня и разлил по термосам, ягоду уже дохтора сами добавляли. А знатный у тебя табачок артиллерист, – польстил мне хитрый Петруччо, – давненько я такого не пробовал, может, угостишь старика?
– Для доброго человека ничего не жалко, – порадовал я его, протягивая нераспечатанную пачку. Он повертел её в руках, рассматривая этикетку, и зачитал вслух название.
– Папиросы "Пушки". Ого, сам артиллерист, стреляет из пушки и курит папиросы "Пушки", – скаламбурил Пётр. Потом все нюхал пачку, никак не решаясь её открыть.
– Да ты не журись, а возьми всю пачку себе, я-то ведь не курю.
– Вот это уважил, так уважил, конечно, не беломор фабрики Урицкого, но тоже неплохой табачок.
– Ну, извини, беломор в наше сельпо не завозили, – ответил я, делая виноватую физиономию и разводя руки в стороны.
– И где же ваше сельпо находится? – отсмеявшись, спросил ушлый "главвар".
– В Зауралье, возле Кургана.
– А точнее.
– Деревня Куликово, Белозерского района.
– Ну, тогда дозволь представиться по полной форме: Добролюбов Петро Архипович родом с Суерки. – отрапортовал этот "гад", лыблясь во всю свою хитрую морду лица и вставая по стойке смирно.
– Сержант Доможиров Николай Никанорович – командир артиллерийского расчёта! – представился я в ответ, отдавая воинское приветствие. И тут же уже хором:
– ЗЕМЛЯКИ!!! – мы кинулись обниматься и жать друг другу руки.
После такого представления ни о каком шапочном знакомстве не могло быть и речи, и мы проговорили до самого окончания привала. Естественно, я больше слушал, чем говорил, и в результате узнал много нового и полезного. Оказалось, что Пётр воевал с нашим комбатом ещё на Хасане, получил там ранение и был комиссован. А в солдаты попал ещё в гражданскую: сначала его забрили колчаковцы, и с ними он дошёл до Уфы, был ранен и после излечения отступал до города Челябинск, где был распропагандирован большевиками и вступил в Красную армию. А когда гнал бывших сослуживцев на восток и, проходя по родным местам, узнал, что вся семья умерла от сыпного тифа, то на родину решил больше не возвращаться и остался в кадрах. Последним местом службы была должность старшины пулемётной роты и бои на озере Хасан, где отражая психическую атаку японцев, Петро и был ранен, но от пулемёта до конца боя так и не отошёл. Ещё я узнал, что наш комбат – майор Селиванов Михаил Никифорович командовал полком, отличился в боях с японцами и был представлен к награде, но не повезло, попал под следствие. А дело было так.
Полк майора Селиванова глубокой ночью сменил одну из частей на переднем крае. Ни свежих разведданных, ни сведений о противнике, от молодого старлея получить не смогли. Узнали только, что от батальона, который держал там оборону и пытался наступать, осталась одна неполная рота, и последний самый старший по званию командир – старший лейтенант Твёрдохлебов, которому повезло остаться в живых. Немного внёс ясность немолодой старшина, который сказал буквально следующее: япошки на этой высоте хорошо укрепились, пулемётов у них до буя, и ихняя артиллерия лупит не жалея снарядов, батальону конец, а он в гробу и в белых тапках видАл таких комдивов, и ему уже всё равно, кто его пристрелит, свои или косоглазые, один хрен подыхать. Говорил он это естественно не при всех, а только Петру, когда тот угостил его табачком и дал глотнуть из своей фляжки неразбавленного спирта.
Пока занимали позиции и копали дополнительные окопы, наступил рассвет, а примерно через час пожаловало "высшее командование" в чине дивизионного комиссара и его свиты, который и отдал устный приказ о наступлении. Когда майор потребовал письменный приказ, то в ответ услышал отборную матерщину и увидел ствол маузера направленный ему в лицо. На подготовку атаки было дано полчаса, и вперёд.
В итоге, после первого натиска батальоны откатились на исходную, с большими потерями. Но нет худа без добра, в результате такой своеобразной разведки боем, артиллеристы полковой батареи пристрелялись по некоторым целям в обороне противника. И вторая атака возглавленная командиром полка, оказалась успешней. Полк, хоть и потерял треть личного состава, но за передний край обороны японцев у подножия высоты всё же зацепился. Потом в течение дня дошли до гребня и отжали у противника вторую траншею. Дальше продвинуться уже не смогли, потому что самураи перешли в контратаку, и ополовиненные потерями батальоны до самого заката отражали яростные атаки японских войск. Вот в последней контратаке Петра и ранило. А об итоге этих боёв он узнал уже в госпитале. Полк потерял две трети убитыми и ранеными, дивкомиссар после очередной демонстрации оружия лишился половины зубов. Раненный «батя», узнав о потерях, вернулся на КП полка, чтобы доложить о них, но когда встретил этого комиссара, размахивающего своим оружием, то не сдержался и всёк ему левой, здоровой рукой и, пока тот собирал свои зубы с пола, доложил по телефону в дивизию о понесённых потерях. Там очень удивились услышанному (оказалось, что никакого приказа на наступление не было, ждали пока подтянется дивизионная и корпусная артиллерия) и приказали удерживать оборону на достигнутых рубежах, а также ждать приезда начальства, которое вскорости и приехало вместе с военным прокурором. В результате проведённого разбирательства под следствие попали оба, и комиссар, и комполка, но майору повезло больше. Бывшего дивизионного комиссара расстреляли по делу маршала Блюхера в самом конце 1938-го года, а Селиванова отпустили и восстановили в кадрах, но на заметку взяли. И теперь наш «батя» вечный майор по званию и комбат по должности.
Дослушав рассказ до конца, я засобирался к своим, с мыслью о том, что забыл что-то сделать. На прощанье Петро достал из своего вещмешка и подарил мне банку сгущёнки и коробочку монпансье. Мы пожали друг другу руки, и я откланялся.
Глава 5. В разведке.
Когда я уже подходил к своему взводу, прозвучала команда "становись", и мы продолжили свой путь. Идти было не далеко, и через три часа колонна батальона уже втягивалась в небольшой лесок у деревни Плеханово. На марше так ничего интересного и не произошло, за исключением пролёта одиночного самолёта в наш тыл. Команду «воздух» подали вовремя, но увидев звёзды на крыльях, отменили. Я рассказал взводному про комбата, а он мне про "зенитных пулемётчиков" из нашей пульроты. Так и не дождавшись меня, он сам сходил к пулемётчикам, и всё у них разузнал. Оказалось, что специальные прицелы и треноги у них были в укладке, на каждый третий пулемёт. Но на марше толку от них немного, одна маета, и только в обороне есть смысл установить их для отражения воздушной атаки.
Так как наша дивизия находилась во втором эшелоне, то и занимать рубеж обороны и окапываться, никто не спешил. Лишь штабные и сапёры проводили рекогносцировку и намечали рубежи будущей обороны. Целые сутки наши подразделения приводили себя в порядок и отдыхали после маршей, в части был устроен парко-хозяйственный день, и организована помывка личного состава. Вперёд выдвинулся лишь дивизионный разведбат, да зенитчики заняли позиции для прикрытия войск и штабов.
В ночь с 17 на 18 июля наш батальон совершил форсированный марш для занятия предполья в район станции Нелидово. Для этой цели нам выделили десять грузовиков марки ЗИС-5, на них мы загрузили все лишние боеприпасы и тяжёлое вооружение, которое с одной из стрелковых рот они и перевезли первым рейсом. Остальной батальон двигался в пешем порядке, зато налегке. Вторым рейсом забрали обе наших пушки с боекомплектом из зарядных ящиков и остальной личный состав, оставив лишь три ручника для прикрытия оставшегося конного обоза. Облегчённые повозки весело пылили по ночной дороге, и где-то к восьми утра мы прибыли на станцию. Стрелковые роты ушли занимать позиции и окапываться, нам же пока никаких приказов не поступало, и мы, позавтракав, легли спать.
В час по полудню нас подняли и послали оборудовать позиции. Так как рубеж обороны батальона проходил по берегу реки Межа, то единственным танкоопасным направлением на нашем участке был железнодорожный мост через эту речку. Вот туда-то нас и направили. А позиция нам досталась неплохая, прямо как нарочно созданная для обороны. С запада на восток проходила железная дорога с мостом через реку, к востоку от реки местность повышалась, а в трёхстах метрах от берега, левее железки, располагалась небольшая высотка, местами поросшая кустарником. Вот на этой-то высоте нашему взводу и предстояло оборудовать свои позиции, чем мы и занялись. На следующий день к нам присоединился стрелковый взвод с двумя станковыми и четырьмя ручными пулемётами, и мы на два дня превратились в натуральных кротов, ископав всю высотку вдоль и поперёк. Но зато были оборудованы основные и запасные огневые, а также укрытия для личного состава и ровики для снарядов.
Пока мы копали землю, 143-й ОРБ, заняв станцию Земцы и сделав её своей базой, вёл разведку, посылая группы в различных направлениях. Разведгруппы формировали не однородного состава, а для каждой задачи разные: где дороги были хорошие, туда высылали разведку на бронеавтомобилях, туда, где похуже, отправлялись грузовики с мотопехотой, для форсирования водных преград использовали плавающие танки, ну и пешие дозоры проходили везде. Единственным недочётом было то, что в мотострелковой роте батальона не было тяжёлого вооружения (пятидесятимиллиметровые миномёты не в счёт). Для разведки боем бронеавтомобили годятся. Могут поддержать наступающую роту огнём своих сорокапяток и пулемётов, но это если местность позволяет и проезжие дороги рядом. А если предстоит действовать в лесисто-болотистой местности, да ещё без дорог? Пехота-то пройдёт, свои полуторки бойцы тоже вытолкают. А где не смогут, продолжат выполнять боевую задачу пешком. И вот тут-то уже мотострелков поддержать будет нечем. А лошадки они пройдут везде, да и станковые пулемёты можно на себе утащить. Поэтому-то комдив и приказал выделить в распоряжение разведбата взвод станковых пулемётов и наши сорокапятки.
Приказ пришёл двадцатого числа, и утром на следующий день мы собрались в дорогу. Пулемётчики прикатили к нам на четырёх повозках, мы тоже взяли с собой две наших пароконных повозки с боекомплектом, правда часть снарядов пришлось оставить в расположении, а на их место, догрузили гранаты, ну и весь наш запас консервов, предварительно упакованный в ящики из-под снарядов. Для перевозки личного состава освободили пару подвод из обоза и, получив ещё и «энзэ» на двое суток, позавтракали и тронулись в путь. Пешком никто не шёл, поэтому до места мы добрались за два с половиной часа, и доложились командиру разведбата о прибытии. Осмотрев наше "войско", поздоровавшись с красноармейцами и поговорив с командирами взводов, майор очень обрадовался, и сразу же велел зачислить нас на довольствие. Пока наши командиры оформлялись в хозчасти разведбата, я увидел возле здания штаба скамейку и, сидящего на ней человека с умным лицом и сержантскими треугольниками в петлицах, и пошёл туда. Достал папироску, замял на ней гильзу, и соответствующим жестом попросил прикурить. Сладко затянувшись (эх, прощай здоровые лёгкие), я обратился к сержанту с "дежурным вопросом":
– А что, невесты в вашем городе имеются?
На что последовал незамедлительный ответ:
– Кому и кобыла невеста.
Ух ты, товарищ дружит с юмором и знает нашу классику, это хорошо, пожалуй поговорим!
– А у вас что, кобыла в невестах?
– На счёт кобылок, я не знаток, а вот девки тут ядрёные!
Девки мне, конечно, не нужны, во всяком случае, в данное время, а вот информация о батальоне, пожалуй, не повредит.
– Не возражаешь, если я присяду, а то устал с дороги?
– Садись, место не куплено, а в ногах правды нет.
– В жопе она тоже не водится, – сострил я, присаживаясь рядом.
– Это смотря в чьей, некоторые до самой задницы раскалываются, когда хорошенько надавишь.
Оба-на, вот это поворот, я думал это простая штабная крыса, а тут "ещё этот тип, из второго батальона".
– И кого же вы с таким усердием давите, что аж правда лезет? – пытаюсь я на косвенных прокачать оппонента.
– Да гадов всяких ползучих, змей там, тараканов, всяких разных вредителей "полей и огородов"! – с усмешкой на губах проговорил он.
– А понял, вы из санапедстанции, – включил я дурака. – Вы лошадок наших не посмотрите? А то одна храмлет.
– Санэпидемстанция, это тебе не ветлазарет, так что извини, ничем помочь не могу, – свернул разговор мой собеседник, вставая. Я тоже встал, выбросил папироску и, делая вид, что никуда не тороплюсь, стал прощаться с собеседником, протягивая ему руку.
– Ну, будете у нас на Колыме, милости просим, всегда рады хорошим людям.
Тот немного подумав, ответил:
– Лучше уж вы к нам.
Пожав друг другу руки, мы разошлись.
Вот это поворот, я что, опять ногами в жир попал? Пошёл по грабли, а пришёл грабленый! И что это за фрукт такой? Так, начнём с самого начала. Когда я подошёл, он сидел и курил папиросу, оружия при нём не было. Или было? Точно, на ремне справа висела кобура с наганом. Что дальше? Петлицы малиновые с двумя треугольниками, значит сержант-пехотинец, возраст лет двадцать пять, для призывника многовато, значит сверчок, обут в сапоги. Ааа, вот походка!? Точно, походка кошачья, нет, скорее тигриная, лицо худощавое, фигура поджарая, движения несуетливые, но в тоже время резкие. На особиста вроде не тянет, слишком молод, а вот на погранца, или спецназера!? Точно из этих, тех которые в зелёных фуражках, скорее всего из халхингольцев, которых набирали для пополнения нашей дивизии, когда мы ещё на финскую ехали. К нам тогда прислали этих "партизан" для замены расчётов. Из памяти Николая мне всплыло, как они всю дорогу до границы толком ничего полезного не делали, а только спали, пили, пока была водка, играли в карты, в общем, морально разлагались, в отличие от нас, срочников, которые и несли службу. Фууу!!! Отлегло, точнее, пронесло – и ещё как пронесло, "еле до туалета добежал" – шутка, это просто сержант из разведки, ну если у них в разведке все сержанты такие, тогда ой. Хана Гитлеру, точнее песец. Ну, все это вряд ли, таких много не бывает, товар, как говорится, штучный. Пока я рассуждал таким образом, подошёл взводный с красноармейцем из штаба, и нас определили на постой.
Отцепив пушки, и спрятав их в какой-то развалюхе, мы стали обустраиваться на месте нашей дислокации. До обеда ничего интересного не случилось, а вот после. После обеда началась суета. Сначала прибежал посыльный с вызовом для взводного. Когда тот вернулся, то приказал готовиться к маршу всему личному составу взвода, за исключением приданных из обоза двух повозочных (их мы оставляли для присмотра за лошадьми), а также выделить четырёх бойцов для погрузки боеприпасов. Вот этих-то извозчиков мы и послали, а ещё Разведфедьку, который болтался поблизости, и старшим команды моего наводчика Задору, а то эти такого нагрузят, что потом будем стрелять учебными или салют гансам давать. Приготовив своё снаряжение и осмотрев всё моё оружие, я взял ППД и подошёл к взводному пообщаться. От него я узнал, что нам предстоит отправиться в разведпоиск на юго-запад, где в шестидесяти верстах от нас находилось село Ильино. Нам нужно было разведать маршрут, проходимость дорог, наличие мостов и бродов через реки, а также проверить шоссе на Смоленск от села Ильино до реки Межа. Дороги туда были, но предстояло форсировать пару речек, да и в каком состоянии эти "автобаны", никто не проверял, поэтому в состав группы вошли следующие подразделения: второй взвод мотострелковой роты на своих грузовиках, взвод плавающих танков Т-38, а для поддержки выделили наш взвод и отделение станковых пулемётов. А так как командовали этими взводами сплошь лейтенанты, то и старшим назначили капитана Алексеева – командира роты. Для дальней связи нам дали автомобиль с радиостанцией. Командование не поскупилось и выделило что нам, что пулемётчикам, по два ЗИСа. К своим мы, догрузив укупорки со снарядами из передков и кое-что ещё, сразу же прицепили наши пушки, а пулемётчики на каждый свой грузовик поставили станкач на зенитной треноге. Ещё один ЗИС-5 загрузили бочками с бензином и канистрами с маслом, а также некоторыми запчастями и запасными колёсами. Получив сухпай на четверо суток, мы двинулись в путь.
Впереди пылили четыре наших танчика, сразу за ними эрзац-зенитка, потом мы, следом за нами грузовики с мотопехотой и все остальные. В замыкании шли вторая "шилка" и "последний из могикан". Первые десять километров мы проскочили на довольно приличной скорости 30 километров в час, дальше дорога пошла похуже, но скорость практически не снизилась.
Первый привал сделали на берегу речки, у деревни с говорящим названием Козлы. Долили в радиаторы воду, заправили технику, слезли с машин и сами оправились. Танкисты, осмотрев свои агрегаты и заправив машины, залезли в свои гробики и быстро форсировали реку. Пока мы переправлялись вброд через эту "козлячью" речушку, танкисты ушли вперёд на разведку. А название действительно говорящее, мы насилу переправились в этом месте. Речка-то по колено, и шириной метров тридцать в районе брода, но дно заилено, и шедшая первой "зенитка", встала на середине реки, но совместными усилиями "пулькоманды" и нашего расчёта, машину вытолкали на тот берег. Наш же грузовик с пушкой на прицепе, вытягивали уже при помощи зенитки. Потом водилы посовещались и, прикинув буй к носу, поступили следующим образом. Согнали всех лишних со своих пепелацев, отцепив нашу сорокапятку, соединили все грузовики тросами и без особых проблем переехали реку. Правда, когда передний начал пробуксовывать, его цепанули к зенитке, и как в сказке "внучка за бабки, бабка за дедку, дедка за репку" вытянули на дорогу. Наше оставшееся орудие взял на буксир следовавший в хвосте танчик, и недовольно урча мотором, перетянул на ту сторону. Бойцы же перешли речку по колено в воде и, отжав портянки и перекурив накоротке, расселись по машинам. Свои танки мы догнали возле деревни Баево, там же встретили кавалеристов из 29-й армии, и переговорив с молодым летёхой, уже в полном составе попылили к месту назначения. Где-то к семи часам вечера наша колонна не доезжая до села Ильино километра два, заехала в лес, и мы аккуратно затихарились там. Для разведки были выслав пешие дозоры, в направлении моста через реку Билейка, и ближе к селу.
Примерно через час от дозорных прибежали посыльные с докладом. В деревне противника не обнаружили, не было там и своих войск, а лишь только местные пейзане занимались своими делами. А вот на мосту! Мост охраняли солдаты в форме бойцов НКВД, но старший дозора заметил, что они как-то странно себя вели, и на контакт с ними не пошёл (да и приказа не было), а решил понаблюдать, как он выразился "издаля". С результатами этих наблюдений он и отправился доложить начальству, строго настрого приказав оставшимся бойцам "не высовываться и во все шары глядеть за чужаками".
Выслушав младшего сержанта, ротный приказал личному составу выдвигаться на опушку леса, оставив всю технику на месте, а сам, прихватив с собой "лица особо приближенные к императору", поспешил за дозорным к месту наблюдения. Наш взвод тоже оставили на месте, но я отпросился у взводного и, прихватив с собой для связи "дядю Фёдора", побежал за разведчиками, чтобы засветло увидеть этих непонятных "коварных типОв", благо бинокль у меня был свой. Добравшись до опушки, мы залегли в густом кустарнике и стали осматривать местность.
Сразу перед нами на расстоянии четырехсот метров с юга на север проходило асфальтированное шоссе, дорога была широкая и прямая, с высокой насыпью. В пятистах метрах в направлении на юго-запад от нас находился мост через небольшую реку, а так как трасса была "федерального" значения, то и мостик был хоть и недлинным, но капитальным. Судя по крутым берегам, глубина реки в этом месте была приличной, ну а ширина всего метров двадцать пять – тридцать, но просто так через неё техника пройти не сможет, поэтому и мостик имел хоть и не стратегическое, но тактическое значение. Вот этот-то объект и охраняли доблестные войска НКВД, судя по их форме. Ну, с формой всё понятно, а вот с её содержимым…
Первая странность заключалась в том, что справа от моста параллельно дороге был отрыт окоп на отделение, с пулемётной точкой, смотрящей в сторону леса, то есть на восток. Точно такой же окоп просматривался и слева от моста, хотя логичней было бы отрыть позицию параллельно реке, но видимо у охраны свои причуды, "каждый по-своему с ума сходит". А вот причуды ли, и есть ли окопы с той стороны насыпи, надо будет проверить. Ещё раз, внимательно осмотрев мост, и по привычке наметив ориентиры, я решил подойти по лесу ближе к реке, чтобы присмотреть удобную позицию для нашего орудия. Немного оттянувшись от опушки вглубь леса, мы встали во весь рост, и пошли в южном направлении. Не доходя сотни метров до берега, нос к носу столкнулись с моим утрешним собеседником.
– Это куда это мы такие красивые намылились? – сходу спросил разведчик.
– А с какой целью интересуетесь? – чисто по-еврейски ответил я.
– Ну, раз интересуюсь, значит мне по должности положено! – начал грубить сержант.
– Во-первых, должности у нас одинаковые, а во-вторых – болтун находка для шпиона. Ты что шпион, раз хочешь узнать военную тайну? Если шпион, тогда руки вверх, – я навел свой ППД на разведчика. Фёдор сместился вправо и тоже взял его на прицел своего карабина.
– Всё, один-один, уймись артиллерия, убери свои пушки, а то наделаешь отверстий, потом не запломбирУешь, – поднял и развел руки в стороны в знак примирения мой оппонент.
– Ладно, проехали, – смилостивился я и повесил автомат на плечо.
– А всё-таки, зачем вы сюда пришли? – уже в нормальном тоне спросил он. Ну, ежели с нами по человечески, то и мы по-людски. Я достал портсигар и пригласил разведку перекурить.
– Давай перекурим, а заодно и поговорим. Если у тебя время есть?
– Для хорошего человека десять минут найдётся.
Мы присели под деревом и закурили. Чтобы не тянуть кота за все подробности, я первым начал разговор.
– Посмотрели мы на твоих бывших сослуживцев, и чем-то они нам не понравились.
– С чего это ты взял, что они мои, а уж тем более сослуживцы? И чем это они вам не понравились?
– Раз ты бывший пограничник, то и принадлежите вы к одному наркомату – НКВД, вот ты сам со своими странными охранниками и разбирайся.
– Это кто тебе сказал, что я бывший пограничник? И давай расскажи мне, что такого странного ты разглядел.
– А ходишь ты тихо, да и подкрадываешься незаметно, вон Федос у нас хоть и разведчик, а топает своими сапогами как слон, его за версту слыхать. – Дядя Фёдор покраснел. – Ну а по этим. Окопы у них не так расположены, фронтом на нас, точнее на восток, а кто на них из тыла нападёт? А ещё надо на ту сторону дороги глянуть. Посчитать, сколько их там.
– Да уж, приметливый ты мужик, как я погляжу. Ладно, давай знакомиться, потом пойдём к ротному, с ним поговорим. Филатов Сергей, – протянул мне ладонь сержант.
– Николай Доможиров, – ответил я и пожал его руку.
– Изотов Федя, – представился наш разведчик.
Затушив папиросы, мы пошли к опушке леса. Увидев подходящее дерево, Сергей с проворством рыси влетел на него и минуты через две спустился, доложив:
– Ты прав, слева от моста за дорогой, только одна пулемётная точка с круговым обстрелом, а справа землянка и два грузовика, наши ЗИСы.
По дороге Сергей рассказал, что служит "замком" во взводе лейтенанта Бабиновского. Дальше шли уже молчком, так как подлесок подходил ближе к шоссе, а заросли ивняка тянулись вдоль реки, почти до самого моста. Вот в этом-то подлеске мы и встретили командира мотострелков, наблюдающего за "противником". Нашептав что-то ему на ухо, "погранец" пристроился рядом, ротный же внимательно посмотрев на меня, показал жестами, что через десять минут уходим. Разместившись неподалёку, я расчехлил свой бинокль, и с помощью оптики стал высчитывать расстояния и определять ориентиры.