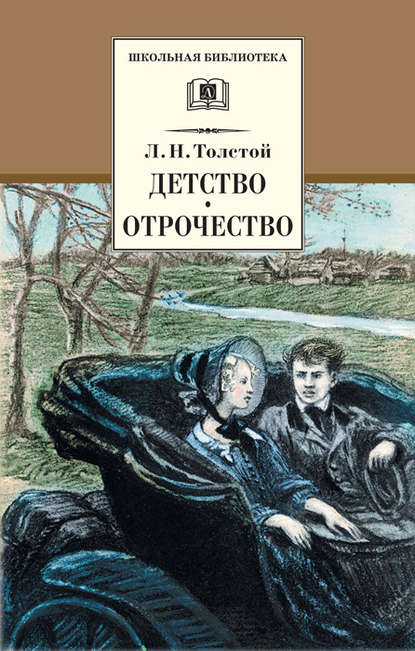«Осколки завтра. Как я собрал себя по кусочкам»

- -
- 100%
- +
животе высыпались зёрнышки – не синтепона, а таблеток, которые он
когда-то прятал от себя в медвежьем брюхе.
«Лизавета… – он попытался встать, но гипс на ноге хрустнул, как лёд
под санками в тот день, – я… купил… новый…»
«Врёшь, – девочка прижала палец к губам. Её платье шелестело, как
больничные шторы, а за окном метель выводила на стене цифры: 1 800
000. – Ты продал его. Как меня. – Медведь упал на пол, и из пустых
глазниц поползли муравьи, неся на спинах осколки кукольного
фарфора. «Смотри, – Лиза указала на чёрное солнце, – оно жжёт
тебя за ложь».
Артём схватил медведя, но плюш превратился в пепел. «Нет! – он сжал
кулак, и таблетки впились в ладонь, оставляя синяки в форме детских
пальчиков. – Я верну…»
«Уже поздно, – Лиза распахнула окно. Ветер ворвался, унося её
волосы – прядь за прядью, как нити из распоротой куклы. – Мама ждёт.
– Она шагнула на подоконник, и розовое платье вспыхнуло, как
сигнальная ракета. «Дочка… ждёт…» – прошептал Артём, но это был
уже не он.
«Дочка ждёт, – повторила медсестра, вонзая иглу в вену. – В морге.
– Её бейдж болтался на груди, как ярлык на кукле в комиссионке. «Она
просила передать». – В ладони Артём увидел пуговицу от розового
платья – края оплавлены, будто её вырвали из огня.
Хруст – не гипса, а костей Лизы, когда её вытаскивали из проруби.
Артём закричал, но звук растворился в шипении капельницы. На
стене чёрное солнце пульсировало, обрастая трещинами, а в них, как в
рамах, мелькали обрывки: Лиза в реанимации, Лиза в гробу, Лиза в руках
дилера, считающего деньги.
«Она… жива… – он ухватился за халат медсестры, но ткань порвалась, обнажив шрам в форме петли. – Покажите…»
«Вам показали, – она кивнула на окно. За стеклом, в снежной
круговерти, танцевала кукла с лицом Лизы – её ниточки были
привязаны к капельнице. «Она теперь всегда с тобой. – Медсестра
достала из кармана ножницы. – Хочешь перерезать?»
Артём рванул иглу из вены. Кровь брызнула на стену, залив чёрное
солнце, и в красной луже он увидел отражение: Лиза качается на
качелях, а вместо верёвок – капельницы. «Пап, – она смеётся, и изо
рта выпадают зубы, – ты же обещал летать со мной!»
«Лети… – он рухнул на пол, цепляясь за медвежью лапу, валявшуюся
рядом с биркой «Залог». – Я… догоню…»
Он ещё не знал, что через час, в лифте морга, услышит детский смех.
Что дверь откроется, и на пороге будет стоять медведь – с пришитой
лапой и новой биркой: «Оплачено. 1 800 000». А хруст, который
разбудит его ночью, будет не сломанной костью, а звуком челюстей
куклы, шепчущей в темноте: «Пап, я всё видела…»
Конверт, сшитый из её последнего вздоха
Конверт лежал на тумбочке, как гробик для куклы – углы помяты, шов
распорот, будто его вскрывали ножницами для разрезания детских
страхов. «От Лизы» – надпись выведена синими чернилами, теми
самыми, которыми Артём подписывал закладные на её игрушки. Внутри
пахло больничным антисептиком и жжёной кожей, словно письмо
пролежало в пепельнице рядом с её ингалятором. Артём дрожал, разрывая конверт: бумага хрустела точь-в-точь как лёд под санками, когда Лиза кричала: «Пап, я проваливаюсь!»
Рисунок. Чёрное солнце пожирало небо, его лучи – петли из ЭКГ-лент
– опутывали клетку, где человек с лицом Артёма грыз прутья. В углу, у
ног, валялась кукла без глаз, её платье из газеты с заголовком: «Отец
продал ребёнка за долги». «Лиза… – он провёл пальцем по штрихам, оставляя кровавый след от незажившей ранки на подушечке, – ты…
где?»
«Она не хочет тебя видеть, – медсестра в дверном проёме щёлкала
ножницами, отрезая нитки от капельницы. – Сказала, что ты теперь
монстр. Как её куклы после того, как ты их ломал». – Она кивнула на
рисунок, где в клетке на полу лежала фигурка с оторванной головой —
точная копия той, что Лиза прятала под подушкой.
Артём перевернул лист. На обороте – отпечатки губ, малиновых, как её
жар во время пневмонии. «Она не хочет тебя видеть» – почерк
Натальи, но буквы «о» были обведены с нажимом, как Лиза обводила
пальцем дырки в сыре, спрашивая: «Это луна, да?». «Врёшь! – он
смял рисунок, и бумага хрустнула, как хрупкие позвонки куклы, которую
он разобрал на запчасти для продажи. – Она… рисует… меня…»
«Рисовала, – медсестра бросила на кровать фотографию: Лиза в гробу, в розовом платье, с медведем, чья лапа пришита чёрной ниткой. – Это
последнее. Перед тем как перестала дышать. – Она ткнула в клетку
на рисунке, где прутья оказались цифрами: 1 800 000. – Ты и есть этот
зверь. За решёткой из своих долгов».
Артём прижал рисунок к груди, и краска с чёрного солнца отпечаталась
на больничной рубашке, как клеймо. «Я вытащу тебя… – он скреб
ногтями по клетке, оставляя царапины, – вырву прутья…»
«Они уже в твоих венах, – медсестра засмеялась, доставая из
кармана куклу с лицом Лизы – её тело было прошито катетерами. —
Хочешь, отдам? – Она дёрнула за нитку на спине, и кукла захрипела
голосом дочери: «Пап… прости…». – Стоит ровно столько, сколько
ты получил за её последний ингалятор».
Хруст – Артём разорвал рисунок, но из разрыва посыпались таблетки, превращаясь в муравьёв. Они ползли по его рукам, выгрызая цифры
долга на коже. «Лиза! – он бился головой о стену, и чёрное солнце на
потолке треснуло, залив комнату смолой. – Я… не…»
«Не кричи, – медсестра привязала его ремнями к койке. – Ты
разбудишь её. – Она указала на окно, где в снежной метели маячил
силуэт девочки с медведем. «Смотри: она уже стала частью твоей
игры». – Ветер ворвался в палату, унося клочки рисунка, и на полу
осталась лишь кукла – её глаза теперь были пуговицами с его
подписью: «Залог».
Он ещё не знал, что через час, в кармане смирительной рубашки, найдёт
обгоревший уголок конверта. На нём – детская каракуля: «Папа, я всё
видела». А хруст, который он услышит ночью, будет не бумагой, а
звуком челюстей куклы, жующей последнее письмо, чтобы он никогда не
прочитал: «Я всё ещё люблю тебя».
Игла, вшитая в вечность
Процедурная пахла смертью Лизы – спиртом и ванильным кремом из
тюбика, который она вымазывала по столу в день последнего укола.
Артём прижался спиной к холодильнику с лекарствами, чьё гудение
напоминало её астматический свист. «Морфий, – шептал он, тыча
дрожащими пальцами в ампулы, – где ты, чёрт…» Стеклянные
пузырьки хрустели как санки на льду, а за дверью голос медсестры
резал воздух: «Кто там? Я слышала!» Он схватил шприц, и игла
вонзилась в подушечку пальца, оставив каплю крови – точь-в-точь как
та, что Лиза размазала по рисунку в палате, крича: «Пап, это наша
радуга!»
Туалет встретил его зеркалом, заляпанным зубной пастой – чьи-то
детские каракули: «папа + лиза =» – дальше смыто. Артём прислонился
к кафелю, холодный как крышка её гроба, и рванул поршень шприца.
Жидкость блеснула в свете чёрного солнца – дыры в потолке, откуда
капала ржавчина, как слёзы куклы, повешенной за нитку на
вентиляции. «Лиза… – он вогнал иглу в вену, и боль ударила висок, —
я… лети…»
Морфий разлился по жилам жаром, словно он выпил чай, который Лиза
варила из одуванчиков и слёз. Стены поплыли, превратившись в
снежное поле. «Пап, гляди! – её голосок звенел за спиной, – я
лечу!» Он обернулся: Лиза катилась на санках к проруби, а вместо
шарфа на ней болталась капельница. «Стой! – он рванулся, но ноги
приросли к полу, как тогда, когда дилер впервые сунул ему пакет. —
Лиза!»
«Свободен, – прошипел кто-то в ухо. В зеркале, за спиной Артёма, стоял дилер, вытирая окровавленный нож о платье куклы. «Она теперь
моя, – он ткнул лезвием в отражение Лизы, и треснувшее
стекло хрустнуло, как лёд под весом её последнего вздоха. – Ты же
хотел быть с ней?»
Артём рухнул на пол, ударившись коленом о плитку с узором из чёрных
солнц. Шприц выпал из пальцев, и морфий смешался с лужицей —
розовой от её засохшей помады. «Нет… – он пополз к зеркалу, но
отражение Лизы таяло, как узор на окне в мороз. – Верни её!»
«Сам отдал, – дилер пнул ему куклу – её голова отлетела, обнажив
шестерёнки, смазанные чёрной слизью. – За морфий, за долги, за
гроб… – Он рассмеялся, и смех рассыпался осколками по кафелю. —
Хочешь, покажу, как она плакала, когда ты продал её мишку?»
Артём впился зубами в шприц, высасывая остатки. Мир распался на
пиксели: потолок задымился, как крематорий, а из вентиляции
посыпались конфетти из фото Лизы. «Теперь я свободен… – он
прислонился к стене, и трещины обняли его, как её ручонки в последние
секунды. – Лиз…»
«Свободен? – голос медсестры пробился сквозь морок. Она стояла в
дверях, держа куклу с вырванным сердцем – на его месте болталась
бирка «1 800 000». – Ты просто труп на отсрочке. – Она бросила
куклу в лужу морфия, и та зашипела, выпуская пар с голосом Лизы: «Пап, я всё видела…»
Артём закрыл глаза. В темноте зажглось чёрное солнце, и под ним, на
качелях из капельниц, качалась Лиза. «Держись, – она улыбалась, протягивая ему обруч от кукольной коляски. – Мы же летим!»
Он ещё не знал, что через час санитар найдёт его с пустым шприцем в
руке и рисунком на груди: чёрное солнце, проглотившее клетку. Что в
кармане обнаружат кукольный глаз с надписью: «Прости». А хруст, который раздастся при повороте тела, будет не костями, а звуком
ломающихся крыльев бумажного ангела, которого Лиза клеила на
последний Новый год.
Пазл из осколков её имени
Потолок плыл, как лёд на реке в тот день, плитки складываясь в
узор: чёрное солнце с лучами из ЭКГ-линий, а в центре – силуэт
девочки, держащей куклу без лица. Артём лежал на полу, щека прилипла
к кафелю, холодный как стекло морга. «Папа, ты где?» – голос Лизы
вырвался из вентиляции, смешавшись с шипением капельницы, опрокинутой в луже морфия. Он попытался поднять руку, но
пальцы хрустнули, будто сминались в кулаке те самые санки, которые
он продал за дозу. «Ли…за…» – губы оставили кровавый отпечаток на
полу, повторяя узор её губ после бронхоспазма.
Плитки замигали, превращаясь в кусочки детского пазла: здесь – её
смех в ванне с пеной, там – дилер, пересчитывающий кукол вместо
денег. «Собери меня, пап», – шептали кусочки, но морфий склеивал
веки. Над ним, в чёрном солнце, кружила кукла-медсестра, вырывая из
своей груди синтепон и бросая клочья в лицо Артёму: «Ты же хотел
быть свободным?»
«Свободным…» – он выдохнул, и пар от дыхания нарисовал на
потолке цифры: 1 800 000. Из динамиков полилась колыбельная – та
самая, что Наталья пела Лизе в палате, пока он торговал её золотыми
серёжками. «Спи, мой грех, – пел голос, – папа стал дымом…»
Хруст – дверь распахнулась, ворвался свет фонаря. «Он здесь! —
медсестра тыкала каблуком в его бок, – опять гребётся в своём
дерьме». – Её тень легла на потолок, сливаясь с чёрным солнцем в
монстра с нитями марионеток вместо волос. «Что это? – она вырвала
из его руки смятый рисунок, где клетка из цифр превратилась в кольцо из
кукольных глаз. – Опять её бредни?»
Артём попытался схватить бумагу, но пальцы прошли сквозь неё, как
тогда сквозь лёд. «Отдай… – он закашлялся, выплёвывая осколки
фарфоровой руки куклы, – это… последнее…»
«Последнее? – медсестра разорвала рисунок, и обрывки превратились
в мотыльков, сгорающих в свете фонаря. – Ты всё профукал. Даже
право быть отцом». – Она бросила ему под ноги куклу с выжженной
надписью на лбу: «ОТЦОВСТВО АННУЛИРОВАНО».
«Пап… – голос Лизы донёсся из раковины, где крутилась вода, унося
обрывки её писем. – Ты обещал…»
«Молчи! – медсестра ударила металлическим подносом по трубам, и
эхо ударило Артёма в виски. – Твоя дочь теперь чужая. Как эти куклы.
– Она раздавила каблуком игрушечную голову, и хруст смешался со
звоном разбитого градусника из прошлого. «Когда очнёшься, узнаешь: Наталья выиграла суд. – Она наклонилась, и её дыхание пахло
формалином. – Но тебе-то что? Ты уже мёртв. Просто ещё
дрыгаешься».
Артём закрыл глаза. В темноте зажглись огоньки – как гирлянда на их
последней ёлке. Лиза собирала пазл на полу: чёрное солнце с лицом
Артёма в центре. «Смотри, пап, – она вставила последний кусочек, —
это же ты! Настоящий герой!»
Он не услышал, как медсестра вызвала санитаров. Не почувствовал, как
тело оторвали от пола, оставив на кафеле кровавый отпечаток в форме
куклы. Не узнал, что в кармане его робы найдут обгоревший уголок
рисунка с надписью: «Папа + Лиза = » – дальше пепел.
Когда он очнётся, то узнает, что Наталья выиграла суд. Ему
запрещено приближаться к дочери. Но запреты – для тех, кому
есть что терять.

Глава 4: «Одиночество вдвоём»
Наведи на QR-код и получи музыкальное сопровождение к Главе 4:
«Одиночество вдвоём» (Название: «Одиночество вдвоём»).
Лаванда для мёртвых голубей
Зал суда пах лавандой из саше, разложенных на скамьях, будто пытался
заглушить вонь лжи – той самой, что сочилась из протоколов, как гной
из недолеченной раны. Артём, в пиджаке с пятном от детской присыпки
на локте (Лиза рассыпала её в день, когда он впервые не пришёл на
утренник), сжал в кармане печенье-сердечко. Оно крошилось, как их
брачный контракт, испечённый Натальей в прошлом году «для
примирения». Судья, женщина с лицом куклы-марионетки, чьи губы
блестели от бальзама с лавандой, стучала метрономом по папке: Тук-тук-тук – точь-в-точь как Лиза стучала кулачком в дверь туалета, где
он прятался от кредиторов.
«Брак расторгнуть. Дочь – матери, – голос судьи резал воздух, как
ножницы, отрезающие нить от куклы. – Мистер Соколов, вы лишены
родительских прав. Встаньте».
Артём не двинулся. Он смотрел на Наталью: её шляпа с вуалью
напоминала саван, а новые часы на запястье – «Tissot Le Locle» с
циферблатом цвета льда – блестели, как слеза Лизы в день, когда он
продал её планшет. «Подарок адвоката? – он выплюнул слова, и они
упали на пол, превратившись в осколки стекла от той самой рамки, где
хранилось их общее фото. – Или плата за молчание?»
Наталья вздрогнула. Под вуалью что-то блеснуло – возможно, серёжка, которую он подарил на годовщину, а может, клипса от нового
любовника. «Ты сам всё сломал, – её голос звучал как скрип
метронома. – Даже печенье не спасло. Помнишь? Ты раздавил его, когда я попросила вернуть деньги за Лизины лекарства».
«Врёшь! – Артём вскочил, и пиджак, пахнущий больничным
антисептиком, распахнулся, обнажив рубашку с пятном морфия. – Я…
собирал…»
«Собирал долги. И её кукол. – Наталья сняла перчатку, показав шрам
на ладони – след от ожога, когда он швырнул в неё зажигалкой. – Ты
даже сердечко раскрошил. – Она кивнула на пол, где крошки печенья
смешались с осколками – синими, как глаза Лизы.
Судья ударила метрономом по столу. «Мистер Соколов! Вы слышите
решение? – Она подняла документ, и сквозь бумагу просвечивали
цифры: 1 800 000. – Вам запрещено приближаться к дочери ближе
чем на 500 метров. Это включает кладбище».
«Кладбище… – Артём засмеялся, и смех рассыпался осколками по
залу. – А если она ждёт? Если зовёт?. – Он потянулся к Наталье, но
часы на её запястье запищали, как сигнал тревоги. – Ты же видела
её… в ту ночь… Она дышала!»
«Она перестала дышать, когда ты продал её ингалятор! – Наталья
встала, и вуаль зацепилась за брошь в форме разбитого сердца. —
Теперь она свободна. От тебя». – Она бросила на пол ключи от их
старой квартиры, и те, ударившись о осколки, заискрились, как гирлянда
на последней ёлке Лизы.
Артём наклонился поднять печенье, но крошки превратились в муравьёв, несущих кусочки фарфора от кукольного лица. «Лиза… – он сжал в
кулаке осколок, и кровь потекла на пол, рисуя чёрное солнце. – Я…»
«Следующее заседание – о взыскании долга, – судья закрыла папку, и метроном затих. – Мистер Соколов, вам повезло, что тюрьма пока
не светит. Но, полагаю, это вопрос времени».
Наталья вышла, не оглянувшись. Её туфли хрустели осколками, а за
окном, в чёрном лимузине адвоката, ждал водитель с лицом дилера.
Артём остался один, с печеньем-сердечком, которое теперь было целым
– но лишь в его галлюцинациях, где Лиза, смеясь, мазала его вареньем
из растёртых таблеток.
Он ещё не знал, что через час, в кармане найдет осколок с надписью
«папа +», что метроном в пустой квартире будет тикать в такт шагам
приставов, а осколки стекла из-под двери сложатся в слово «прости».
Но запреты – для тех, кому есть что терять.
Каталог отрезанных крыльев
Ручка скрипела, как несмазанные качели Лизы, оставляя кляксу на
строке «Права на отцовство» – чернила расплывались, как синяк под
глазом Натальи в ту ночь, когда он попытался вырвать из её рук залог на
квартиру. Артём сидел за столом, пахнущим лавандой и пылью архивов, а пристав тыкал пальцем в список: «Коттедж в Барвихе – лот №12.
Кольцо с сапфиром – лот №7. Санки детские – лот №3
(повреждены)». Каждый лот сопровождался фото: коттедж с
заколоченными окнами напоминал кукольный домик, брошенный под
дождём, а сапфир в кольце отсвечивал синевой Лизыной куртки, которую
она носила в день первого приступа.
«Подписывайте, гражданин Соколов, – пристав
постучал метрономом по столу, его тиканье сливалось с капелью воды
из треснувшей люстры. – Ваша дочь уже в лоте №0. Не заставляйте
нас вычёркивать вас из всех каталогов».
Артём нажал на ручку сильнее, и перо прорвало бумагу, оставив дыру, сквозь которую виднелся осколок стекла от их свадебной
фоторамки. «Лот №7… – он прошептал, вытирая чернила с пальцев, оставляя синие разводы, как тогда, когда Лиза рисовала ему
«татуировки» фломастером. – Это кольцо… я подарил Наталье в
родзале. Она кричала, а сапфир… он стал того же цвета, что и
Лизины губы, когда…»
«Романтика не оплатит долги, – пристав швырнул ему пепельницу, сделанную из копилки Лизы – на дне виднелись царапины: «Папа +
Лиза = ∞». – Вот ваше печенье-сердечко, кстати. – Он бросил на
стол рассыпавшееся угощение, и крошки упали на строку «Санки
детские – повреждены». «Хотите, съешьте на прощание. Как
последнее причастие».
Артём взял крошку, но та растворилась на языке, оставив вкус горелого
сахара – точь-в-точь как присыпка на торте, который Лиза пыталась
испечь ему в прошлом году. «Они не повреждены, – он ткнул в
описание лота, и бумага порвалась, как фата Натальи в день
свадьбы. – Санки целы. Это лёд под ними треснул. Она
провалилась, а я…»
«Вы продали лёд, – пристав засмеялся, доставая из кармана осколок
стекла от бутылки шампанского, которой они отмечали рождение
Лизы. – И санки. И кольцо. И воздух, которым она дышала. – Он
бросил осколок в пепельницу-копилку, и тот звонко ударился о дно, высекая искру. «Подписывайте. Или ваше “папа + Лиза” станет лотом
№666».
Артём вывел буквы, и чернила потекли, как слёзы Лизы в день, когда он
не взял её на каток. «Лот №12… – он всмотрелся в фото коттеджа, где
на крыльце всё ещё виднелся след от её зелёной краски. – Там под
окном… она закопала свою куклу. Скажите новым хозяевам… пусть
не выбрасывают».
«Кукла уже в каталоге, – пристав хлопнул папкой, и от удара со стола
упал метроном, разбив стекло на циферблате. «Лот №45: игрушка
повреждённая, без глаз. Стартовая цена – бутылка дешёвого вина».
Когда Артём вышел, на ступенях суда лежало печенье-сердечко —
целое, как в день их свадьбы. Он наступил на него, и крошки смешались
с осколками от разбитой витрины магазина, где Наталья купила Лизе
первый плед. Ветер донёс обрывок аукционного списка: «Лот №0: право
называться человеком. Продано за 30 серебряников».