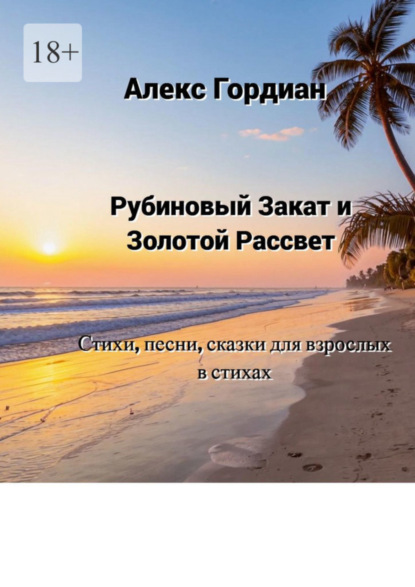- -
- 100%
- +

Вступление.
Он сидел босиком на холодном бетоне. В рваной футболке, выцветшей до состояния призрака. Домашние шорты. Слюни желчи текли по подбородку. Он смотрел на пламя в открытой дверце котла и не мог оторваться.
Боковым зрением видел ведро. Полное пепла и залы. Оттуда высунула морду тварь. Полупаук, полуосьминог. В ее глазах было что то человеческое. От этого тошнило сильнее.
От пламени шла музыка. Он знал, что ее нет. Но слышал. Пение цикад. Журчание ручья. Носом чувствовал запах мокрой хвои. Утренней тайги. Ему хотелось плакать.
Боги, мне надо встать.
Заткнись ублюдок. Его голос прозвучал как скрежет железа по стеклу. Он кричал в ведро.
Морда исчезла. Он пялился в залу. Видел, как в ней шевелятся комки пепла. Рождаются новые мелкие паучки. Серые. С щупальцами. Он моргал, и они рассыпались.
Тяжело мать. Вытри слюни. Вставай. Закрой дверцу. А то сожжешь это дно. Они только обрадуются. Но потом не простят. Даже после ухода.
Он поднял руку. Грязь под ногтями была не грязью. Это была пыль этого места. Серая. Вечная. Она въелась в кожу. Стала частью его.
Пламя дышало. Живым ртом. Оно лизало уголь. Плевалось искрами. Танцевало. И из этого танца лезли звуки. Не цикады. Теперь он слышал. Это был звон. Тонкий. Будто по стеклу водят лезвием. А журчание было шепотом. Множество голосов сплетались в один ручей безумия.
Он потер виски. Боль была знакома. Не похмелье. Да уже вырабатан толлер и похмелье это старый его спутник, где то на фоне. Это было иное. Синдром присутствия. Реальность гнила и прорастала химерами. Цвета плыли. Запах тайги вытеснял вонь мазута. Потом возвращалась знакомая горечь.
Из ведра донесся шорох. Влажный. Он не повернулся. Знакомый ритуал. Тварь копошилась в его пепле. В его отходах.
Я тебя не кормлю. Его голос был сиплым. И кормить не буду. Ищи другого дурака.
Из ведра донесся смех. Безумный. Пузырьки воздуха в густой слизи. Он отпечатался прямо в черепе.
Он уперся руками в пол. Мышцы одеревенели. Суставы скрипели. Холодный бетон жег ступни. Это было простое чувство. Единственное честное.
Он поднялся. Мир поплыл. Тени от котла потянулись к нему щупальцами. Он зажмурился. Раз. Два. Три. Открыл. Почти нормально.
Подошел к ведру. Морды не было. Но пепел шевелился. Дыбился бугорками. Слепые кроты под землей. Он пнул ведро ногой. Глухой удар. Шевеление затихло.
Успокоился.
Ответа не было. Молчание было гуще.
Он повернулся к топке. Жар опалил лицо. Высушил все внутри. В глотке стало сухо и больно. Внутри горело все. Что должно было гореть. И что нет.
Рука сама потянулась к чугунной дверце. Снова пахнуло тайгой. Теперь с дымом. И послышался голос. Женский. Звал его по имени. По старому имени. Стёртому.
Он дернул ручку. Дверца захлопнулась с оглушительным грохотом. Музыка умерла. В тишине остался только гул котла и его хриплое дыхание.
В тусклом свете лампочки кочегарка обнажилась. Угольные барханы. Потные трубы. Запах тления.
Он потер глаза. В углу у стены сидела фигура. В такой же позе. Такая же рваная. Фигура подняла голову.
Он увидел свое лицо. Изможденное. С глазами полными той же желчи.
Боги. Подумало лицо в углу. Мне надо встать.
Он медленно покачал головой. Развернулся и пошел к выходу. К лестнице наверх. В мир, который был не лучше.
За его спиной в ведре снова зашуршало.
Глава 1.
Мне надо было привязать этого кролика что бы он не мог забежать в клетку. Конечно чем ещё себя занять в эти сумерки. Хватит дергаться. Просто схвати за шкирку, не вздумай брать за уши они очень хрупкие и ломаются как шоколадная плитка. Что ты чувствуешь когда достаёшь стекляного зайца что ещё пару минут назад убегал из под твоей же кожи. А кожа то и не факт что твоя. Нет сука я уже не передатчик, но они смогли мне её заменить пока я спал. Но я перехитрил их систему и достал этого довольно ловкого стекляного кролика. Боги шепчут мне на ушко, кролику нужна подружка. Хорошая рифма. А пока вход в клетку заказан, кушай озон и пей снег братец. По доскам в огороде ступаю аккуратно, днем все подтаяло, а к вечеру снова замерзло.
Лед под ногами хрустел не так, как должен был. Не чистым зимним хрустом, а влажным, чавкающим. Будто крошился не лед, а кости. Мелкие, птичьи. Я шел, а за спиной у меня болтался на веревке этот стеклянный кролик. Он позвякивал. Каждый его ушастый прыжок отзывался в висках тонким звоном, тем самым, что раньше лился из котла. Музыка моего личного сумасшествия.
Двор был пуст. Фонари стояли криво, их свет лился на асфальт жидкими грязными лужами. В этих лужах иногда что то шевелилось. Не тени. Не отсветы. Что то плотное, маслянистое. Я старался не наступать. Не знаю почему. Инстикт.
Кролик дернул веревку. Я обернулся. Его стеклянные глаза, две матовые бусины, смотрели куда то в сторону забора. Туда, где из трубы бывшего хлебозавода валил густой, черный как смоль, дым. Он стелился по земле, тяжелый, не желая подниматься к грязному небу. В его клубах что то двигалось. Крупное. Медленное.
Не смотри, шепнул я сам себе. Голос был чужим. Просто иди.
Но кролик упрямился. Он отчаянно брякал своими хрупкими лапами, тянул меня к той тьме. Может, он там видел свою подружку. Ту, о которой шептались боги. А может, это была ловушка. Какая разница. Все здесь ловушка. Каждый квадратный метр этой проклятой земли.
Я дернул веревку. Кролик с размаху грохнулся на лед. Треснул. По его прозрачному боку побежала тонкая паутинка. Из трещины сочился не сок, не кровь. Оттуда полз дым. Тот самый, из трубы. Пахнущий гарью и старой болью.
Вот и все, братец. Твоя подружка тебя достала. Теперь вы вместе. В дыму.
Я потащил его дальше, теперь он скользил по мерзлой земле, оставляя за собой мутный след. Дым из трещины тянулся за нами черной нитью. Она пульсировала. Как пуповина.
Мне нужно было к реке. Там, в камышах, стояла та самая клетка. Ржавая, с вырванными прутьями. Но они говорили, что если привязать к ее дверце что то не от мира сего, она на время замолчит. Перестанет звать. Перестанет показывать тебе твое же лицо в ржавых пятнах.
Дорога шла мимо спящих гаражей. Их ржавые ворота были похожи на закрытые веки. Но я чувствовал, как из щелей за мной следят. Не люди. Не животные. Что то, что научилось принимать форму тени. Они боялись кролика. Боялись его звона. Пока он не треснул.
Теперь они стали смелее. Из под одного воротника темноты выкатилась капля смолы. Она растеклась по асфальту, приняла форму длинных, костлявых лап, и поползла за мной. Бесшумно. Пахло она старым машинным маслом и чем то сладковатым, гнилым.
Я ускорил шаг. Кролик стучал по кочкам, его звон стал приглушенным, захлебнутым собственным дымом. Тень за мной тоже заспешила. Ее лапы шлепали по асфальту с едва слышным мокрым звуком.
Река была близко. Ее запах, запах гниющих водорослей и промозглой воды, перебивал все остальное. Почти.
Я свернул между гаражей, надеясь срезать. Это была ошибка. Тупик. Заваленный битым кирпичом и пустыми бутылками. Развернуться было некуда. А та тень уже заползала в проход, перекрывая выход. Она поднималась по стене, растекаясь, становясь выше. В ее центре сгустилось нечто вроде лица. Без глаз. Без рта. Просто вмятина, всасывающая в себя весь окружающий свет.
Я отступил, прижался спиной к холодному шиферу. Веревка выскользнула из пальцев. Стеклянный кролик лежал на земле, и дым из его трещины теперь клубился сильнее, сливаясь с темнотой.
Боги, прошептал я. Шепот сорвался на хрип.
Из тени протянулась лапа. Длинная, жидкая. Она не спеша поползла к моему ботинку.
И тут кролик взорвался.
Тихо. Без огня. Он просто рассыпался на миллионы осколков. И из этого облака осколков вырвался визг. Пронзительный, как отточенная сталь, вонзающаяся в барабанные перепонки. Он резал не только слух. Он резал саму реальность.
Тень сжалась. Ее псевдолицо исказилось в беззвучном крике. Она заколебалась, попыталась отступить, но визг догнал ее, разорвал на клочья. Клочья тьмы упали на асфальт и затихли, превратившись в обычные, ничем не примечательные лужи.
Визг стих. В тишине остался только я, осколки и черный, жирный след на земле. От кролика не осталось ничего. Только память о его звоне.
Я сделал шаг. Потом другой. Выбрался из тупика. Река была прямо передо мной. Камыши шелестели на ветру. Словно кто то перешептывался.
Клетка стояла там, где и должна была. Ее дверца была открыта. На ржавом полу лежал мой стеклянный кролик. Целый. Неповрежденный. Он смотрел на меня своими пустыми глазами.
Я подошел ближе. Заглянул внутрь. В глубине клетки, в самых тенях, сидела она. Его подружка. Изваянная из того же хрусталя, того же безумия. Она медленно повернула ко мне свою ушастую голову.
И подмигнула.
Я отшатнулся. Сердце заколотилось где то в горле. Я обернулся, глядя на свой след. На тупик. Никого. Тишина.
Когда я снова посмотрел в клетку, ее там не было. Была только ржавчина и паутина.
Но на пороге лежали два осколка стекла. Идеально круглых, как слезы.
Я поднял их. Они были теплыми. Я сунул их в карман. Они жгли мне бедро. Напоминали.
Миссия выполнена. Кролик привязан. Не к клетке. Ко мне. Навсегда.
Я пошел прочь от реки. В кармане позвякивали два осколка. Новая музыка. Новые боги на ушко шепчут. Иди, братец. Иди. Впереди еще много сумерек.
Глава 2.
Вода на плите в металлической кружке уже закипела. Шипела, плевалась, выплескивала на конфорку капли мутной жидкости, которые тут же сворачивались коричневыми пятнами, пахшими тоской и одиночеством. Наливаю в чайничек с ржавыми гвоздями. Они не очищались от кипятка от ржавчины, а таили в нем. Лежали на дне, как дохлые насекомые в могиле из эмали. Мне ни как не получается растопить эти два кубика сахара, которые я закинул в него по большей части для запаха и успокоения своих демонов в эту безудержанно молчаливо улыбающуюся мне красную луну ночь. Сахарные черепа плавали в рыжей жиже, упирались в стенки, не желая растворяться. Не сдавайся, брат. Скоро и ты станешь частью этого бульона. Чаем это назвать язык не поворачивается. Это отвар. Вытяжка из ржавых гвоздей и несбывшихся надежд.
Окно в камбузе было грязным, заляпанным высохшими брызгами не то дождя, не то чего то иного. Сквозь эту пелену городской ночной свет расплывался в гниющее сияние. Оранжевые фонари были язвами на теле асфальта. А над этим всем висела она. Красная луна. Не естественный спутник, а наглый, кровоточащий глаз, вставленный в небесную пустоту. Она улыбалась. Я это чувствовал кожей. Ее улыбка была как шрам на лице мира.
Сейчас я упаду на сено и буду лежать пока земля меня не подымет. Сено лежало в углу, под столом, было серым, слежавшимся, пахло пылью и временем. Не сеном, а трухой, в которую превратилось все, что когда то росло. Я повалился на него, не раздеваясь. Колючки впивались в щеку через ткань рваной куртки. Хорошая боль. Настоящая.
Мимо проходят куда то спешащие люди. Вечно спешащие закончить эту жизнь. Их тени, длинные и уродливые, проскальзывали в щели между ставнями, мелькали, как кадры испорченной пленки. Бегут, спотыкаются, поднимаются, снова бегут. Крысы в лабиринте, стен которого они не видят. А может, видят, но предпочитают не замечать. Легче так.
Проезжают мимо автомобили. Их фары резали ночь, как скальпели, но не могли пробить ее плотную, бархатную плоть. Звук моторов был далеким, приглушенным, будто доносился из под земли. Похоронная музыка для тех, кто еще дышит.
Я кивнул этому старцу моющему ноги в луже. Он стоял под моим окном, на колдобине, где вечно стояла вода, и медленно, с каким то ритуальным скрипом, тер свои стопы черной мочалкой. Вода в луже была черной, маслянистой. Батя здравствуй. Он поднял на меня глаза. Глаз. Второй был затянут бельмом, молочным и неподвижным. Его живой глаз блеснул, узнал. Кивнул в ответ. Его губы шевельнулись, но слов я не разобрал. Потом он снова опустил голову и продолжил свое омовение. Мы все тут что то моем. Кто то ноги, кто то совесть. А кто то кровь с лезвия.
Мои кости стеклянные, их надо беречь, разве не понятно почему я лёг именно на сенно. Оно принимало форму моего тела, не сопротивлялось. Сено дышало затхлостью, и с каждым вдохом в легкие попадала не пыль, а память. Память о полях, которых я не видел, о солнце, которого не помнил. Здесь нет загадки, не разгадки. Просто физика. Стекло бьется о камень. А о сено – нет. Все просто. Как выстрел.
Да. Нет. Никогда. Это был не я. Это кто то проговорил у меня в затылке. Голос был знакомый, мой, но старше. На несколько жизней старше. Он произнес эти слова без всякой связи с мыслями. Просто констатация. Ответ на вопрос, который никто не задавал.
Они говорили про тех двоих. Их ищет весь город. Я поднял голову, прислушался. Сквозь стекло доносились обрывки радиопереговоров из проезжавшего мимо мусоровоза. Металлический голос сквозь треск и помехи. …приметы… последний раз видели… Голос провалился в шипение. Потом снова: …опасны… возможно, вооружены… Я опустил голову. Мне было все равно. Те двое были призраками, а в этом городе призраков было больше, чем людей. Они растворялись в толпе, в стенах, в самом воздухе. Их искали, но найти – значило признать, что город болен. А этого никто не хотел.
Разглядывая и изучая следы от протекторов шин, возвращаться уже поздно. Я смотрел на потолок. На нем был узор из трещин. Он напоминал карту. Карту мест, которых нет. Или есть, но лучше бы их не было. Одна трещина, длинная и извилистая, вела к пятну от протечки. Пятно было похоже на то самое ведро с пеплом. На дне которого копошилось Нечто.
Я повернулся на бок, свернувшись калачиком. В кармане шуршали осколки. Те самые, от кролика. Они были холодными. Ледышками. Я достал один, поднес к полоске света, падавшей из за шторы. Идеально круглый. Слеза. Слеза стеклянного зверя. В его глубине что то шевельнулось. Не отражение. Нечто, пойманное в ловушку хрусталя. Я сунул осколок обратно в карман. Он снова начал нагреваться. Приживаться.
Снаружи завыла сирена. Не скорая. Не пожарная. Та, что воет, когда в городе происходит нечто, о чем не пишут в газетах. Она резала тишину, как раскаленный нож сало. Люди за окном засуетились быстрее. Их тени замелькали, сплетаясь в панический танец.
Я закрыл глаза. Под веками поплыли пятна. Не цвета. Формы. Узнаваемые и чужие. Полупаук, полуосьминог. Морда из пепла. Она смотрела на меня. Ее человеческие глаза были полны немого укора. Ты не кормишь. А кто должен?
Я зарылся лицом в сено. Запах пыли, смерти травы, перебил все остальное. На секунду. Потом снова просочился запах чая. Ржавого, горького. Он висел в воздухе, как приговор.
Вставать было рано. Земля еще не была готова меня принять. А может, это я не был готов к ее прикосновению. Я лежал и слушал. Слушал, как по крыше что то перебирается. Мелкое, юркое. Не птица. Не крыса. Нечто с когтями из стекла. Оно царапало шифер, и этот звук сливался со скрежетом в моей голове.
Они ищут тех двоих. А те двое, может, ищут меня. Зачем? Чтобы отдать долг? Чтобы замкнуть круг? Или просто чтобы в темноте, в кромешной, безысходной темноте, было кому протянуть руку и нащупать такое же холодное, испуганное плечо?
Я сжал кулаки. Стеклянные кости похрустывали. Предупреждение. Береги себя. А то разобьешься. И соберет тебя уже не тот, кто надо.
Красная луна плыла за окном. Ее свет лился сквозь грязное стекло, окрашивая мои руки в цвет запекшейся крови. Я смотрел на них. Чужие руки. Чужие шрамы. На одной, чуть выше запястья, был шрам, похожий на паука. Я его не помнил. Он просто был. Как все в этой жизни. Просто было.
Возвращаться уже поздно. Да и некуда. Остается только одно. Лежать. Ждать. Слушать, как в кармане позвякивают осколки прошедшего дня, и знать, что завтра будет то же самое. Тот же чай. Та же луна. Те же тени за окном. Пока одна из этих теней не остановится, не повернется, и я не увижу в ее чертах свое собственное лицо. Уставшее. Изможденное. С глазами, полными той же желчи.
И тихо, так, чтобы не услышали даже боги, шепнуть: Вот и ты. А я тебя ждал.
Глава 3
Чик чирик. Чик чирик. Нервно чирикал своим криком воробей по телевизору. Не по телевизору, а в нем. За стеклянным глазом, в ядовитом сиянии. Сидел на ветке из оголенного провода и долбил клювом по мозгу. Чик чирик да чик чирик. Вот-вот сейчас лопнет и забрызгает все желчью. Они будут смотреть. Они всегда смотрят.
Они будут смотреть, как старичок в том переходе хорошо играет на скрипке. А я слушаю. Скрипка плачет стеклом. Ее смычок это заточенный луч красной луны. Он водит по струнам нервам, и они поют. Поют о восьми человеках, которых отправили в тайгу на остров. Тайги станет меньше или людей среди этих людей? Вопрос не риторический. Это уравнение, написанное мелом на мокром асфальте. Оно расплывается, пока я думаю.
Я думаю, обводя мелом канал. Не канал. Стык между плитами на полу. Инструктаж. Провожу инструктаж для тех, кто спасал меня от исторически важных событий. Почти ежедневно. Почти. Их лица расплывчатые пятна, как на старой фотографии, залитой химикатами. Они кивают. Они понимают. Пока не сгорит их контора. Или очередное перерождение после бунта. Ну, знаете. ООО станет ОАО. Или ИП. В этом духе. Смена вывески. Смена кожи.
Пусть заклинатель только пикнет. Я не шучу. Заклинатель это тот, кто шепчет из ведра с пеплом. Его голос, скрип ржавых петель. Он обещает. Он уговаривает. Он знает мое старое имя.
Я глотал эту кишку. Да. Чтобы язва излечилась сама. Логика, доступная лишь избранным. Избранным безумием. Она была скользкой, упругой, пахла озоном после грозы и чем-то металлическим. Кровью? Возможно. Я глотал, давился, чувствовал, как она бьется в моем горле, живая змея. Удивился даже доктор. А доктор был тут как тут. Сидел в углу комнаты, на моем же стуле, и чистил апельсин перочинным ножом. Его лицо было как маска из воска, подтаявшая у огня. Он смотрел на меня своими стеклянными глазами и кивал. Кивал и чистил. Апельсин истекал соком, как рана.
Интересный случай, - сказал доктор. Его голос был шепотом сухих листьев.-Аутолитическая терапия. Пожирание собственной болезни. Рискованно.
Я вытер рот. Во рту остался вкус меди и статического электричества. Не рискованнее, чем дышать этим воздухом - прохрипел я.
Доктор отрезал дольку апельсина, протянул мне. Вместо мякоти там были шестеренки, мелкие, покрытые рыжей слизью. Я покачал головой. Он пожал плечами и сунул дольку себе в рот. Раздался хруст. Стеклянный хруст.
Чик чирик. Воробей в телевизоре взъерошился. Его клюв стал длиннее, острее. Он долбил в экран, и от ударов по стеклу расходились паутинки. Он хотел вырваться. Или впустить меня внутрь. В тот мир, где всегда день и по траве бегают механические зайцы.
Я поднялся с пола. Ноги были ватными. Голова чугунной болванкой, раскаленной докрасна. В горле застрял комок. Та самая кишка. Она шевелилась.
Подошел к окну. За окном город. Море огней. Но не живых. Мертвых. Это были фосфоресцирующие пятна на разлагающемся теле ночи. Они пульсировали в такт невидимому пульсу. Где-то там была река. Клетка. Стеклянные осколки в кармане жгли плоть. Напоминали.
Я повернулся к комнате. Она была не моя. Просто место, где я остановился. На столе бутылка с мутной жидкостью. Не водка. Нечто, что собирал по каплям с протекающих труб. Настойка на ржавчине и отчаянии. Я отпил. Горело. Не так, как спирт. Горело, как кислота. Смывало вкус кишки. Ненадолго.
В углу, у печки, сидел он. Второй я. Тот, что из кочегарки. Он сидел, обхватив колени, и смотрел на меня. Его глаза были пустыми колодцами.
Боги – прошептал он моими же губами. Мне надо встать.
Заткнись, - сказал я. - Ты уже встал. Мы оба встали. И куда это нас привело?
Он покачал головой. Из его рта посыпалась серая пыль. Пыль этого места.
Они ищут тех двоих, - сказал он. - А те двое - это мы.
Нет - возразил я. - Те двое это они. А мы - это мы. Или наоборот. Какая разница.
Чик чирик. Телевизор взорвался светом. На секунду экран стал белым, ослепительным. В этой белизне я увидел ее. Тайгу. Мокрую хвою. Утренний туман над ручьем. Запах, от которого щемит сердце. Запах дома. Которого нет.
Потом изображение вернулось. Воробей лежал на брюшке, лапки к верху. Из клюва текла струйка желчи. Она растекалась по экрану, заливала все кислотным желтым светом.
Старичок в переходе продолжал играть. Но теперь это была похоронная мелодия.
Я подошел к двери. Пора. Возвращаться уже поздно. Да и некуда. Остается только идти. Вперед. Сквозь эти сумерки, что длятся вечность.
Я вышел на лестничную клетку. Лампочка мигала, отбрасывая пляшущие тени. На стене кто-то нарисовал мелом паука. У него были человеческие глаза. Он смотрел на меня. И подмигнул.
Спускаясь по ступенькам, я услышал за спиной влажный шорох. Оборачиваюсь. Из под двери моей комнаты выползала та самая кишка. Она извивалась, как червь, оставляя за собой слизистый след. Она ползла за мной.
Я ускорил шаг. Она тоже. Ее упругие, мускулистые сокращения отдавались в висках глухими ударами. Я почти бежал. Она почти летела.
Я выскочил на улицу. Ночной воздух ударил в лицо, как влажная тряпка. Пахло гарью, мазутом и… мокрой хвоей. Снова.
Кишка выползла за мной из подъезда, свернулась клубком на асфальте, а потом начала раздуваться. Набухать. Из нее прорастали щупальца. Полупаук, полуосьминог. Но теперь из моей плоти. Из моего отребья.
Она смотрела на меня своими человеческими глазами. Моими глазами.
Ты не кормишь - прозвучал в голове знакомый голос. - А кто же будет?
Я полез в карман. Нащупал осколки. Они были обжигающе холодными. Я вытащил один, тот, что круглый, как слеза.
На, - прохрипел я. - Покушай, тварь. Съешь мое прошлое.
Я швырнул осколок в кишку. Он впился в ее слизистую плоть. Раздался шипящий звук. Пахнуло озоном. Кишка затрепетала, извилась, начала сжиматься. Ее щупальца почернели, иссохли и отвалились, превратившись в пыль.
Через мгновение на асфальте лежала лишь маленькая, сморщенная, безобидная веревочка. И сверкал осколок стекла.
Я подошел, поднял его. Он снова был теплым.
В кармане позвякивал его брат. Новая музыка. Новые боги на ушко шепчут.
Иди, братец. Иди. Впереди еще много сумерек. И красная луна смотрит на тебя, не моргая. И улыбается. Всегда улыбается.
Глава 4.
Подани. Сборы. Напор небесной маны, сладкой и удушающей, как патока из разоренного улья. Лучше остаться обманутым. Больше истины в бреду обдолбанной шлюхи, шепчущей сквозь сон на забытом языке. Ты лучше не берись тогда, если будешь искать причину, чтобы слиться. Ищешь причину, а находишь кол, осиновый и холодный, уже торчащий из твоей спины. Кровь как чай малиновый, густая, липкая, с нотками ржавчины на языке. Так долго раны зализывал, что язык стерся в лоскут кожи, а шрамы стали ртами, беззубыми и немыми. Печать как клятва, под кожей прописана химическим карандашом. Проступает синевой в полнолуние. Оккультный гений этой помойки. Силуэты тени, пляшущие на ржавых стенах. В плену. Пленник тела, этого мешка с костями и желчью. Видеть контуры звука. Слышать деградацию поколений в скрежете трамвая на повороте.