Чёрные орхидеи на могиле Эвридики
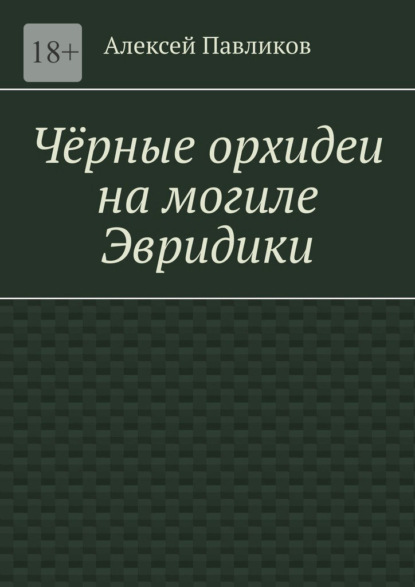
- -
- 100%
- +

© Алексей Павликов, 2025
ISBN 978-5-0068-0726-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Чёрные орхидеи на могиле Эвридики
Глава 1: «Прибытие на Сан-Микеле»
Аннабель ступила на причал. Деревянные доски скрипели, как кости, под её оксфордами, оставляя отпечатки, заполненные морской слизью. Время – 10:55, как показывали карманные часы, подаренные матерью. Но часы висели тяжело, будто внутри них гнило яблоко.
Скалы. Они зияли вокруг бухты – чёрные глотки, застывшие в крике. Чайки врезались в каменные рты, и их перья прилипали к базальту, как конфетти на мокром асфальте. Ветер проносил через расщелины обрывки звуков:
– Ты опоздала… опоздала… – шептали скалы голосом, похожим на скрип двери склепа.
Вилла Вальтера. Белая, как кость, выбеленная известью и временем. На башне – часы с треснувшим стеклом. Стрелки: одна указывала на 11, другая – на 4. Аннабель подняла руку, поймав солнечный луч. Тень от её пальцев легла на камень: 16:01.
– Не совпадает, – пробормотала она, сжимая чемодан. Кожаная ручка впилась в ладонь, пульсируя, будто под ней билась жилка.
Волна – внезапная, холодная – облизнула её лодыжку. Слизь светилась ядовитым #8F9779, оставляя на коже узор, похожий на карту вен. Аннабель вытерла ногу о камень, но пятно въелось, как татуировка.
Окно третьего этажа. Там мелькнуло движение. Тень. Длинная, с искажёнными пропорциями.
– Добро пожаловать, Аннабель, – прошипел ветер, пока тень поднимала руку. Вместо кисти – садовые ножницы, блеснувшие ржавым лезвием.
– Кто вы? – крикнула она, но чайки взметнулись в небо, заглушая вопрос.
Чемодан затрепетал. Аннабель открыла его на щелочок. Внутри:
– Письма от Лоренцо, перевязанные жилами высушенных орхидей.
– Фотография матери, где её лицо зачёркнуто чернильным крестом.
– Карманное зеркальце, в котором отражалась не она, а девушка с ножницами вместо пальцев.
Тиканье. Не с башни. Из её грудины. Глухие удары, будто кто-то стучал изнутри по рёбрам.
– Тук. Тук. Тук.
– Молчите, – прошептала она, прижимая ладонь к груди. Под кожей чтото дёрнулось, как личинка в коконе.
Воздух пах солью и формалином. Аннабель подняла голову. Над виллой плыли облака, повторяющие очертания её отпечатков на причале.
Диалоги ветра:
– Ты разбудила нас… (шелест волн о скалы)
– Он ждёт в оранжерее… (скрип флюгера)
– Не смотри в зеркало до полуночи… (шёпот чаек)
Аннабель сделала шаг к вилле. Воздух загустел, обволок лёгкие желеобразной плёнкой – пахло формалином и гнилыми стеблями. Она закашлялась, выплюнув нить прозрачной слизи. Та завилась на камне, как змея, и исчезла в щели.
Тень на стене виллы вытянулась, исказилась. Сначала это был просто силуэт женщины в платье с турнюром. Потом – крылья: перепончатые, как у летучей мыши, с прожилками, светящимися голубым. Кончики маховых перьев капали чёрной жидкостью, оставляя на стене пятна в форме нотных знаков.
– Ты не должна была возвращаться, – сказал голос. Не из тени – из её собственного горла. Аннабель сглотнула, и язык прилип к нёбу, будто обмазан смолой.
Грета. Имя всплыло само, как пузырь из глубины колодца. Тень повернула голову. Лицо отсутствовало – вместо него зияла дыра с пчелиными сотами внутри. Из ячеек сочился мёд, густой и тёплый. Он стекал по стене, застывая в янтарные сталактиты.
– Они уже начали прорастать, – прошептала Грета (её губы возникли на мгновение – тонкие, синие, как лепестки ириса). Аннабель потянулась к стене, но пальцы увязли в штукатурке, мягкой и влажной, как плоть.
Воздух заурчал. Вязкость заставила движения замереть – рука дрожала, будто плыла сквозь сироп. На запястье выступили капли пота, смешавшиеся с формалином. Жидкость стекала вниз, выжигая на коже цифры: 23… 23… 23…
– Смотри, – прошипела Грета. Крылья тени взметнулись, и свет от них упал на землю. Там, в пятне голубоватого сияния, копошились личинки с человеческими лицами. Одна из них – точная копия Аннабель в возрасте семи лет – подняла голову:
– Мама спрятала ключ в твоём позвоночнике, – пропищала личинка, её голосок звенел, как разбитое стекло.
Ветер донёс запах оранжереи – сладкий, удушливый. Аннабель рванула руку из стены. Штукатурка хрустнула, обнажив сухожилия, сплетённые с электропроводкой. Из разрыва брызнула жидкость цвета ржавчины.
– Беги, – сказала тень, но её крылья уже обвисли, превратившись в плацентарные мешки. – Он выводит новый штамм времени. Из твоих рёбер.
Зеркальце в кармане Аннабель замигало. Она достала его, не глядя. В отражении:
– Девушка с крыльями из проволоки и пергамента,
– Ножницы у её пояса, покрытые плесенью,
– Часы на запястье, где вместо цифр – зубы младенца.
Тень Греты растаяла, оставив на стене надпись мёдом: «Оранжерея ждёт опылителя». Воздух внезапно схлопнулся, и Аннабель упала на колени. Из горла вырвался комок – живой, пульсирующий. Он укатился в дренажную решётку, за ней послышалось чавканье.
Диалоги тишины:
– Твои кости уже цветут… (шелест личинок в пятне света)
– Вырви зеркало… (бульканье жидкости в стене)
– Он найдёт тебя по запаху страха… (треск сот в тени)
Пол вздрогнул. Аннабель едва удержалась, ухватившись за треснувшую панель стены. Доски поднялись, как рёбра пробуждающегося зверя, обнажив корни – сизые, с синеватыми прожилками, пульсирующие в такт приглушённому гулу, будто где-то внизу бился гигантский барабан. Грета стояла неподвижно, её пальцы сжались в точный пинцет.
– Ты слышишь, как он дышит? – её голос был ровным, как лезвие. – Сквозь землю. Сквозь камни.
Она присела, не сгибая коленей, и вонзила ноготь в корень. Кожа на её руке натянулась, обнажив сухожилия, белые как струны арфы. Из разреза хлынула жидкость – густая, цвета окислившейся бронзы, словно кто-то расплавил древний шлем и смешал с пеплом. Капли упали на рукав Аннабель, прожгли ткань.
– Чёрт! – она дёрнулась, но Грета схватила её за запястье.
– Не двигайся. Её пальцы впились в кожу, холодные и гладкие, как хирургические зажимы. – Он ненавидит суету.
Жидкость стекала по руке Греты, оставляя потёки, похожие на коррозию на старых трубах. Аннабель почувствовала, как запах заполняет горло – медь, смешанная с гнилыми водорослями.
– Почему… пахнет морем? – выдохнула она, пытаясь не смотреть на пульсирующие корни.
Грета поднесла ладонь с жидкостью к её лицу. Вязкая масса переливалась, как масло в фонаре, подчёркивая рыжие прожилки внутри.
– Потому что он помнит, – прошептала Грета. – Что было до острова. До нас.
Капля упала на пол, прожгла дыру. Дым поднялся спиралью, приняв форму змеиного скелета. Аннабель попятилась, но спина упёрлась во влажную стену.
– Пей, – Грета приблизила ладонь. Жидкость тянулась нитями, как расплавленный янтарь. – Или он решит, что ты гость незваный.
Грета провела пальцем по воротнику платья, смахнув невидимую пылинку. Ткань хрустнула, словно пропитанная крахмалом, оставив на коже белую полосу, как от мела. Аннабель непроизвольно коснулась родинки на шее – выпуклой, гладкой, будто кто-то вдавил в кожу горошину расплавленного стекла.
– Вы носите её как украшение, – сказала Грета, не глядя. Её глаза скользнули по вене на запястье Аннабель, синей, как трещина в мраморе. – Но свежую. Будто вас только что… отметили.
Она протянула руку, и тень от её ногтей легла на стену, превратившись в когтистые ветви. Аннабель отдёрнула руку, но Грета уже сжала её ладонь. Пальцы – холодные, как ключ из погреба.
– Ваша кровь… – Грета прижала ноздри к её запястью, вдохнула. – Пахнет гроздьями. Спелыми. Теми, что лопаются под дождём.
– Это… духи, – прошептала Аннабель. Её голос дрогнул, как пламя свечи в сквозняке.
Грета рассмеялась – звук, похожий на лязг ножниц.
– Духи пахнут ладаном и страхом. А это… – Она провела ногтем по вене. Кожа побелела, потом налилась багровым румянцем, как вишня, раздавленная сапогом. – Сладко. Сладко до тошноты.
В углу комнаты треснуло зеркало. Отражение Греты распалось на осколки: глаз в одном, губа в другом, родинка на шее – в третьем. Аннабель потянулась к своему отражению, но Грета перехватила её руку.
– Не трогай. Зеркала здесь… мокрые изнутри. – Она смахнула каплю со стекла. Та скатилась по стене, оставив след, как слизь улитки. – Они помнят, как плакали предыдущие гости.
– Зачем вы меня привезли сюда? – Аннабель попыталась вырваться, но Грета прижала её руку к столешнице. Дерево, шершавое от плесени, впилось в кожу.
– Вы сами написали письмо, – Грета наклонилась, и её дыхание пахнуло переспевшим инжиром. – Просили помочь найти мать. А я… люблю потерянных овец.
Она отпустила руку. На столе остался отпечаток ладони – влажный, с прожилками, как на старом пергаменте.
– Но ваша мать… – Грета провела языком по зубам, будто пробуя вкус слов. – Она пахла иначе. Как пустая скорлупа. Как эхо в колодце.
Вилла дышала. Окна-ноздри, обрамлённые гниющими рамами, втягивали воздух с хрипом, будто в груди застрял клубок водорослей. С каждым вдохом стёкла мутнели, покрываясь солевыми язвами, а на выдохе из щелей сочился пар – жёлтый, как гной, пахнущий формалином и мокрым мехом. Аннабель поправила воротник, но ткань тут же прилипла к шее, словно кожа пиявки.
– Нравится? – Грета провела ладонью по стене. Обои затрещали, слезая лоскутами, а под ними змеились сине-чёрные жилы, пульсирующие в такт её шагам. – Она всегда так встречает новых гостей. Обнюхивает.
В прихожей, за стеклом рамы, орхидея «Эдуард, 1991» вздрогнула. Её лепестки, белые как кость, были пронзены ржавым гвоздём. Капля сока – густая, словно сироп от кашля – медленно сползла по стеблю, оставив на стекле жирный след.
– Вы сказали, его сорвали тридцать лет назад, – Аннабель приблизилась, и тень от гербария обвила её шею шипастой петлёй. – Но он… свежий.
Грета щёлкнула ногтем по раме. Гвоздь провернулся, и из отверстия хлынула жидкость цвета запёкшейся крови.
– Ошибаетесь. Его сорвали сегодня утром, – она поймала каплю на палец, поднесла к свету. Внутри пульсировала личинка с крошечными человеческими глазами. – Земля здесь возвращает то, что любит. А она обожает Эдуарда. Он кричал так мелодично…
Аннабель отпрянула, задев рамку «Карлотты, 1927». Чёрные лепестки сжались, царапая стекло когтями из спрессованной пыли.
– Тсс, — Грета прижала палец к её губам. Холодная кожа пахла гниющими персиками. – Карлотта до сих пор злится, что её чаепитие прервали.
Стена за спиной Аннабель вздыбилась. Обои сползли, обнажив волокнистые мышцы, покрытые слизью. Грета выдернула гвоздь из орхидеи и вонзила его в плоть стены. Та затрепетала, издав звук натянутой струны, готовой лопнуть.
– Вилла требует подношений, — она вытерла руки о платье, оставив ржавые полосы. – Ваше письмо она проглотила, даже не разжевав. Слюнявое, отчаянное… вкусное.
Паркет под ногами дрогнул. Между досок вылез осколок кости, застрявший в смоле. Аннабель попятилась, но дверная ручка впилась в спину – холодная и острая, как скальпель.
– Вы говорите, будто вилла… живая, – её голос сорвался, как нить.
Грета сорвала лепесток «Эдуарда», сунула в рот. Жевала медленно, будто пробуя мясо, затем выплюнула чёрную жилку, похожую на провод.
– Живая? — Она засмеялась, и потолок ответил эхом. Над головой Аннабель проступили отпечатки ладоней, выжженные кислотой: «1927», «1991», «■■■■». – Она голодная. А вы…
Стена содрогнулась. Из трещины выполз корень, обвил щиколотку Аннабель. На ощупь – шершавый и горячий, как язык.
– Не дёргайтесь, — Грета поправила воротник, задев родинку. – Иначе она решит, что вы… незрелая.
Воздух сгустился, липкий, как марля. Где-то заскреблось – ножницы по проволоке, крик, приглушённый слоями штукатурки. Аннабель взглянула на гербарий. Орхидея «Эдуард» теперь была подписана «1997», а в его лепестках отпечатались зубчатые раны, будто кто-то пытался вырваться.
– Она уже дала вам имя, — прошептала Грета.
На стене, меж жил, тени сплелись в буквы: «Аннабель, █████». Последние цифры стёрлись, будто их слизали.
Пыльца с гербария осела на ресницах Аннабель, словно пепел. Она чихнула – резко, как выстрел, – и платок, прижатый к носу, покрылся чёрными звёздочками, будто чернильные брызги. Грета замерла, её зрачки сузились в щели, как у кошки перед прыжком.
– Апчхи! – повторилось эхом в стенах, но уже голосом Карлотты – хриплым, с надрывом.
– Будьте осторожнее с памятью, – прошипела Грета, срывая с орхидеи «Эдуард» лепесток. Тот закрутился в воздухе, прилип к щеке Аннабель. На ощупь – влажный и шершавый, как язык мертвеца. – Она въедается в лёгкие. Превращает их в гербарий.
Аннабель попыталась стереть пятно, но кожа под ним заныла. Зуд полз по руке, как муравьи под эпидермисом. Она закатала рукав: под тонкой плёнкой вен пульсировали фиолетовые прожилки, похожие на корни.
– Что это? – её голос дрогнул, сливаясь со скрипом паркета. Доски под ногами шевелились, выталкивая наружу обломки рёбер, застрявшие в смоле.
Грета наклонилась, её дыхание пахло теперь перекисью и мёдом.
– Первые признаки, – она провела ногтем по фиолетовым линиям. Кожа расступилась, как глина, обнажив под ней бутон – крошечный, полупрозрачный, наполненный чёрной жидкостью. – Вилла сажает сад под кожей. У Карлотты к утру третьего дня из ушей выросли лианы.
Аннабель рванула руку, но Грета впилась ногтями в запястье.
– Не дёргай корни! – её голос треснул, как ветка под снегом. – Иначе они пробьются к сердцу. Быстрее.
С потолка упала капля. Не кровь – нектар, густой и липкий. Он попал на бутон, и тот лопнул, выпустив рой крылатых семян с человеческими глазами. Они закружились вокруг Аннабель, цепляясь за волосы, как репейники.
– Снимите их! – она замахнулась платком, но ткань прилипла к ладони, обнажив узоры из плесени – точь-в-точь как прожилки на гербарии.
Грета рассмеялась, и в смехе зазвенели осколки стекла.
– Поздно. Ты уже удобрение, – она указала на стену. Тени сплелись в новую надпись: «Аннабель, 2025». Дата пульсировала, как гнойник. – Смотри, как она торопится. Обычно имена созревают неделями.
Зуд усилился. Под коленкой что-то зашевелилось – росток, прорывающийся наружу. Аннабель вскрикнула, царапая кожу, но Грета схватила её за волосы.
– Перестань! – она прижала её лицо к гербарию. Стекло треснуло, и орхидея «Карлотта» вырвалась наружу. Чёрные лепестки обвили шею Аннабель, впиваясь в вены. – Цветы ненавидят паникёров. Хочешь, я покажу, что выросло у Карлотты из глаз?
Где-то в глубине виллы заскрипели половицы – медленно, тягуче, будто кто-то тащил тело по лестнице. Воздух наполнился сладковатым смрадом гниющих лепестков и свежевскрытой могилы.
– Она идёт, – прошептала Грета, отпуская Аннабель. – Твоя мать. Вернее, то, что от неё осталось.
На стене, рядом с именем, проступил силуэт – женский, но с плечами, покрытыми грибницей вместо волос. Аннабель закричала. Из её рта вырвался рой семян.
Ваза с орхидеями стояла на столе, как пациент на операционном столе. Проволока, туго обвившая стебли, впивалась в плоть растений, оставляя рваные желобки, из которых сочилась синеватая жидкость. Она пульсировала по жилкам в такт шагам Аннабель – глухо, как удары сердца через воду. Грета провела пальцем по капле, свисающей с проволоки, и та упала на скатерть, прожёг дыру с оплавленными краями, словно от кислоты.
– Капельницы для питания, — она щёлкнула по металлу, и звон разнёсся по комнате, как удар скальпеля по стеклу. – Без них цветы… разлагаются за час. Слишком много жизни в них.
Аннабель потянулась к ближайшему бутону. Лепестки, холодные как керамика, дрогнули, обнажив внутри зубастый зев, усеянный жёлтыми спорами.
– Не трогай! – Грета схватила её за запястье. Проволока на орхидее дёрнулась, впиваясь глубже, и стебель забился, как рыба на крючке. – Они кусаются. Особенно когда чуют свежую кровь.
Синеватая жидкость в жилках загустела, превратившись в вязкую слизь. По столу пополз пар – сизый, с запахом пережжённой кости. Аннабель попятилась, но спина упёрлась во что-то мягкое. Стена. Нет, грудь – тёплая, дышащая, обтянутая обоями с цветочным узором.
– Вилла любит наблюдать, — Грета прикоснулась к обоям, и те слиплись, образуя пульсирующую рану с ресничками по краям. – Ей нравится, как ты пахнешь страхом. Сладковато-кислым, как забродивший нектар.
Орхидеи зашевелились. Проволока заскрипела, впиваясь в стол, и ваза поползла к краю. Внутри забулькало – глухо, словно кто-то захлёбывался в ванне.
– Что в них? – Аннабель прижала ладонь к горлу. Под кожей пульсировал бугорок – твёрдый, как семечко.
– Сок, — Грета поднесла к её лицу пробирку с синевой жидкостью. Внутри плавало человеческое ухо, покрытое плесенью. – Из костного мозга. Карлотта давала сладковатый привкус, а Эдуард… – Она встряхнула пробирку. Ухо ударилось о стекло, издав звук мокрого хлопка. – …он был слишком нервным. Пришлось добавить формалина.
Ваза упала. Стекло разбилось, и синеватая лужа поползла по полу, обходя Аннабель стороной, будто живая. Проволока извивалась в луже, как угорь, впиваясь в паркет.
– Беги, — прошептала Грета, но её губы не шевелились. Звук шёл от орхидей – их зевки теперь раскрывались в миниатюрные рты с крошечными зубами. – Беги, пока они не поняли, что ты… спелая.
Аннабель рванула к двери. Проволока взметнулась, обвила её лодыжку. Холодный металл впился в кожу, и синеватая жидкость потекла по ноге, оставляя ожоги в виде отпечатков листьев.
– Тише, — зашипели орхидеи хором. Их голоса звенели, как бьющееся стекло. – Тише, тише, тише…
Где-то в глубине виллы захлопнулась дверь. По лестнице застучали шаги – тяжёлые, мокрые, будто кто-то тащил за собой клубки корней. Грета улыбнулась, подняла пробирку с ухом и вылила содержимое на пол. Лужа вздыбилась, образуя руку, которая схватила Аннабель за щиколотку.
– Мама идёт, — сказала Грета, и стены засмеялись слизким смехом. – Она хочет посмотреть, как её удобрение цветёт.
Записка лежала на столе, будто вырезанная из её собственного дневника – «Не открывайте окна после заката». Буквы плясали, повторяя её почерк, но с завитками из чёрных нитей, словно корни проросли сквозь бумагу. Аннабель коснулась края, и страница зашевелилась, свернувшись в трубочку с хрустом ломающихся суставов.
– Твоя рука дрожит, – Грета вынырнула из тени, её пальцы скользнули по лепесткам орхидеи в вазе. В мутном отражении цветка вместо лица Аннабель плавало другое – морщинистое, с глазами Греты, но ртом, полным игольчатых зубов. – Почерк узнаёшь? Это ты написала. Через десять лет. Или… через десять минут.
Аннабель рванула руку, но бумага прилипла к коже, обжигая кислотным холодом. Чернила поползли по пальцам, превращаясь в татуировки: «не открывай не открывай не открывай».
– Это невозможно, – она протёрла лицо, и в ладонях остались крошечные споры, прорастающие в поры. – Я не писала…
Грета рассмеялась, и в смехе зазвенели осколки хрусталя из разбитой вазы.
– Ты ещё не начала, – она дунула на орхидею. Лепестки раскрылись, обнажив внутри зеркальце. В нём Аннабель увидела себя – седую, с кожей, покрытой узорами из грибницы, а за спиной – окно. На подоконнике сидела старуха, царапающая стёкла ногтями, длинными как проволока.
– Кто это?! – Аннабель швырнула зеркало, но оно зависло в воздухе, продолжая показывать старуху-близнеца. Её губы шевелились в унисон с Гретиными: «Ты. После того, как вилла переварит твои годы».
Потолок закапал. Капли падали на записку, растворяя буквы в синеватой слизи. Грета поймала одну на язык, закатила глаза:
– Она голодна. Хочет, чтобы ты открыла окно. Чтобы впустила… – Взгляд её скользнул к ставням. Дерево вздулось, как кожа под кипятком, и сквозь щели просочились пальцы – тонкие, костлявые, покрытые морскими ракушками.
Аннабель отпрянула. Воздух густел, липкий и сладкий, как гнилой мёд. Под ногами зашевелился паркет – доски приподнялись, обнажая глазные яблоки в щелях, следившие за каждым движением.
– Закройте это! – она замахнулась на ставни подсвечником, но бронза прилипла к ладони, обрастая плесневыми корнями.
– Ты уже открыла, – Грета указала на зеркало. В отражении старуха теперь стояла внутри комнаты, её платье сливалось с обоями, а пальцы впивались в стену, оставляя кровавые борозды. – Каждое окно здесь – дверь. И каждая дверь…
Ставни захлопнулись сами. Стекла треснули, и сквозь паутину трещин просочился чёрный дым с запахом сгоревших волос. Аннабель закашлялась, а Грета, улыбаясь, поднесла к её лицу лепесток:
– …это рот.
В дыму задвигались силуэты. Руки. Сотни рук, царапающих стекло изнутри. Орхидея в вазе завыла, её стебель изогнулся, выплёвывая клубок волос с прилипшей к нему запиской: «Не открывайте окна после заката. Не открывайте. Не».
– Они здесь, – прошептала старуха в зеркале, её голос скрипел, как ржавые петли. – Они всегда здесь. Под кожей дома.
Грета взяла Аннабель за подбородок, повернула к окну. В дыму теперь ясно виднелись лица – её матери, Эдуарда, Карлотты. Их рты были зашиты синеватой проволокой, а глаза… глазами вилла смотрела на неё всеми сразу.
– Выбор за тобой, – Грета вложила ей в руку ключ, холодный и скользкий, как рыбья чешуя. – Открыть окно… или стать им.
Ключ задвигался, выпустив щупальце из ржавчины. Аннабель вскрикнула. В зеркале старуха подняла руку – и на её запястье расцвела орхидея с подписью: «Аннабель, 2025».
Суп булькал в тарелке, выпуская пузыри, лопающиеся с хлюпающим звуком гниющих плодов. Грета поставила перед Аннойбель ложку – серебряную, но с зубцами, как у садовых вил. На дне тарелки плавали тёмные бутоны, раскрывающиеся при каждом движении жидкости, обнажая розоватые прожилки, похожие на капилляры.
– Семейный рецепт, — Грета провела ногтем по краю тарелки. Фарфор заскрипел, оставляя на ногте белую крошку, как измельчённые кости. – Добавляю корни с восточного крыла. Они ещё помнят вкус Карлотты.
Аннабель потянулась за ножом, но лезвие изогнулось, повернув зазубренный край к её запястью. Все вилки на столе дрогнули, зубцы скрипяще развернулись к её стулу, будто компас, указывающий на север.

