Чёрные орхидеи на могиле Эвридики
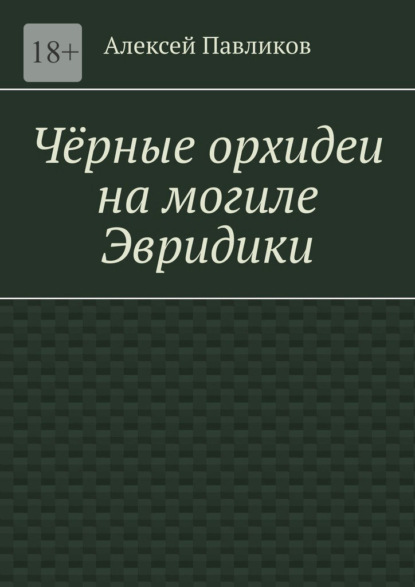
- -
- 100%
- +
– Красиво, не правда ли? – голос Лоренцо просочился из зеркала, его слова оседали на поверхности чёрными каплями, въедаясь в серебряное покрытие. – Симфония симбиоза. Вы теперь нотная тетрадь… а я – дирижёр.
Она рванула занавеску, и ткань рассыпалась жухлыми бабочками, обнажив подоконник. Там лежала медная шестерёнка из супа, но теперь её зубцы были покрыты пыльцой цвета ржавчины, а в отверстии пульсировала жилка, соединённая с трещиной в стекле. Аннабель схватила её, но металл впился в ладонь, выпустив жгучую слизь, которая тут же просочилась под ногти, выжигая:
– Не трогай свои инструменты, – зашипела шестерёнка голосом матери, – ты испортишь механизм.
С потолка упала капля нектара, разбившись о подоконник в лужу, где мгновенно вырос миниатюрный сад: орхидеи из стекла с тычинками-стрелками, указывающими на её грудь. Аннабель отпрянула, ударившись спиной о зеркало, и поверхность прогнулась, обволакивая её холодным желе, сквозь которое проступали тени – Лоренцо, мать, колибри с цветком вместо сердца – все они тянули руки, шепча в унисон:
– Ты часть партитуры… часть партитуры…
Орхидея в её волосах запела – звук напоминал скрип пера по пергаменту, а корни глубже ввинтились в череп, вытягивая воспоминания: вчерашний побег, лицо матери в гробу, обещание бессмертия. На запястье, где вчера цвела сыпь, теперь зияла дыра с живыми краями, из которой выползали муравьи-носильщики с кусочками её ДНК в челюстях.
– Смотри, – голос Лоренцо заполнил комнату, исходя отовсюду: из трещин в стенах, из щелей в полу, из самой шестерёнки, что теперь вращалась сама по себе, – даже время здесь работает на нас. Каждая шестерня – это лепесток. Каждый тик – фотосинтез.
Она бросила шестерёнку в зеркало. Удар вызвал вспышку зелёного пламени, и стекло треснуло, выпустив поток муравьиной кислоты, разъедающей пол. В трещинах засветились глаза-бутоны, а отражение Аннабель исказилось: теперь орхидея покрывала её полностью, как экзоскелет, а изо рта свисал корень-язык, записывающий на полу слова:
– Добро пожаловать домой, Карлотта Вторая.
Где-то вдалеке, за стеной, заиграла шарманка – та самая, что мать заводила по воскресеньям. Только теперь мелодия была медленнее, а вместо нот из трубы вылетали крошечные гробы, разбивающиеся о пол ливнем щепок. Аннабель упала на колени, собирая осколки зеркала, но каждый отражал её новую ипостась: то с крыльями из хирургических скальпелей, то с лицом, заросшим спорами.
– Перестань бороться, – прошелестела орхидея её собственными губами, – ты же чувствуешь, как корни уже добрались до гиппокампа. Скоро ты забудешь, что когда-то была… человеком.
На подоконнике шестерёнка замерла, покрываясь цветами ржавчины, а из её центра выползла гусеница с часами вместо глаз. Стрелки показывали полночь. Аннабель закрыла глаза, но веки проросли плёнкой грибницы, заставляя видеть – оранжерею, себя в зеркальном гробу, Лоренцо, поливающего её корни из лейки, наполненной жидкой сталью.
– Спи, – сказал он, и это слово стало последним, что она услышала человеческим ухом. Потом орхидея захлопнула лепестки-веки, и тишина оранжереи поглотила всё, кроме ритма корней, отсчитывающих секунды до расцвета.
Глава 3: «Дневник Карлотты»
Пыль в библиотеке висела не гравитацией, а затаившимся дыханием – каждая частица мерцала, как спора, готовая прорасти в лёгких. Аннабель провела пальцем по корешкам, и те отшатнулись, обнажив щель в стеллаже, где пряталась книга. Переплёт холодно блестел под лучом света, пробившимся сквозь витраж с глазами вместо розеток – кожа, жёлтая от времени, шелушилась, обнажая под собой синеву вен, а вкрапленные лепестки орхидей пульсировали, словно капсюли с ядом. Гравировка на обложке кровоточила ржавчиной, буквы «Моя кровь – чернила вечности» сочились вязким сиропом, пахнущим медью и гниющими нарциссами.
– Трогаешь – значит согласна, – прошелестел воздух, и страницы сами раскрылись с хрустом ломающихся пальцев, обнажив первый лист, испещрённый письменами из спертой кожи и пыльцы. Аннабель коснулась строк, и чернила вздыбились, впиваясь в подушечки пальцев – боль острая, сладкая, как укол иглой, наполненной нектаром.
– Ты опоздала на тридцать лет, – заговорил дневник голосом матери, но искажённым, будто звук пропустили через сито из корней. – Он уже в твоих костях. В каждом суставе. Ты слышишь, как они скрипят его именем?
Страницы зашевелились, обнажая фотографии-шрамы: здесь мать, прикованная к креслу из лоз, её кожа прозрачна, как пергамент, а под ней копошатся светящиеся личинки, выгрызающие буквы «Лоренцо» на рёбрах. Аннабель попыталась отдернуть руку, но жилы книги вцепились в запястье, впрыскивая в вены память, не свою: запах формальдегида в спальне, крик, когда ножницы вонзились в основание шеи, шепот: «Ты станешь вечностью».
– Он вырезал тебя из меня, – строки дневника поползли по её руке, вживляясь под кожу. – Как черенок. Как паразита. Ты думала, твоё рождение – случайность?
Воздух сгустился, превратившись в кисель из спор, а полки вокруг изогнулись, как позвоночники исполинских существ. Книги застонали, их корешки треснули, выпустив щупальца-закладки, обвивающие её лодыжки. Аннабель вскрикнула, но звук поглотил переплёт дневника – теперь её голос звенел внутри, как колокольчик в стеклянном гробу.
– Читай, – потребовал дневник, и страницы залились кровью-чернилами, складываясь в портрет Лоренцо – его лицо, сшитое из лепестков, глаза – две орхидеи с зрачками-ножами. – Он садовник божественного разложения. Он пересадил мою душу в виллу… а тебя вырастил как приманку для новой жертвы.
Фотографии ожили: мать, теперь с лицом Аннабель, рвёт на груди кожу, вытаскивая клубок спутанных корней, из которого торчит кричащая голова младенца. Дневник засмеялся – смех матери, но с примесью хруста коконов, и страницы начали прилипать к пальцам, оставляя на них ожоги в форме нот.
– Ты инструмент, – шипели буквы, теперь ползающие по её предплечью, как термиты. – Ты – горшок для его нового гибрида. Он выкорчует твоё «я», чтобы посадить в черепницу вечность.
Внезапно дневник захлопнулся, откусив кусок её ладони – плоть исчезла бесследно, оставив дыру с зубчатыми краями, из которой сочился свет, идентичный свечению витражей. Аннабель упала на колени, а пол под ней задышал, раскрывая пасть из паркета, откуда потянулись руки-лозы, обвивающие талию.
– Не убежишь, – проскрипел переплёт, теперь приросший к стеллажу живыми нитями мицелия. – Ты уже на странице 23. Посмотри…
Она посмотрела. На обложке, где раньше было имя матери, теперь пульсировало её собственное: «Аннабель. Глава 4: Удобрение». Гравировка сочилась, и капли падали на пол, прорастая орхидеями с лепестками-зеркалами, отражающими её лицо – наполовину цветок, наполовину разлагающуюся плоть. Где-то в глубине библиотеки заиграла шарманка, и Лоренцо запел её колыбельную, но слова были новые: «Спи, мой гибрид, спи… Скоро мы пересадим тебя в вечность».
Бумага, пропитанная запахом гниющего пергамента, вздулась буграми под пальцами, будто под ней копошатся личинки, а дата «1923 г.» выведена чернилами, в которых плавают микроскопические чешуйки змеиной кожи. «Эдуард принёс образцы с Амазонии» – буквы изломаны, словно писаны во время землетрясения, а на полях, поверх кляксы, застыло засохшее пятно янтарного оттенка, испускающее аромат её духов – «Ночная фиалка», смешанный с горечью разложения. Аннабель прижала ладонь к пятну, и оно ожило, выпустив щупальца воспоминаний: Эдуард, молодой и без рогов, вручает Карлотте стеклянный флакон, где копошатся черви-светлячки, выгрызающие на стенках слова: «Бессмертие».
– Посмотри, – голос Эдуарда просочился из текста, обволакивая её виски смолой старых плёнок, – их нектар – не жидкость, а жидкие кристаллы. Они переписывают клетки… как ноты в партитуре.
Карлотта в памяти дневника смеётся – звук рассыпается осколками хитина, а её рука, протянутая к флакону, покрывается пузырями с лицами тех, кого Эдуард уже «обновил». Образец в пробирке дёргается, вытягиваясь в стебель с зубами, и Эдуард хватает её за запястье, его пальцы оставляют синяки в форме спиралей ДНК.
– Ты боишься стать богом? – он вскрывает флакон, и тень от содержимого ползёт по стене, превращаясь в гигантский цветок с пестиком-скальпелем. – Представь: кожа, обновляющаяся как кора. Сердце, бьющееся в такт приливам. Мы станем… совершеннее деревьев.
Пятно духов на странице вздулось, лопнув облаком спор, и Аннабель вдохнула запах материнской шеи – за секунду до того, как та впервые впрыснула себе нектар. В тексте дневника буквы поползли, перестраиваясь в новый абзац: «Он ввёл мне первую дозу сегодня. Боль была… музыкальной. Мои вены пели арию из щелочи и звёздной пыли». На полях, рядом с пятном, проступил рисунок иглы, вонзающейся в запястье, а чернила вокруг раны пульсировали, как живая вена.
– Ты чувствуешь, как он меняет тебя? – Эдуард в памяти дневника прижимает Карлотту к стене, его губы касаются места укола, а язык оставляет ожоги в форме нот. – Скоро твоя плоть будет цвести, а старость – осыпаться, как лепестки.
Страница вздрогнула, и из складки выпал засушенный лепесток с Амазонии – теперь он двигался, как многоножка, ползя к краю листа, где чернила складывались в предупреждение: «Не верь его корням». Аннабель попыталась схватить лепесток, но тот впился в палец, впрыснув жгучую память: Эдуард в лаборатории, его спина покрыта рогами из мицелия, а перед ним на столе лежит тело с лицом Карлотты, изо рта которого растёт орхидея.
– Он солгал, – зашипел дневник, и буквы «код обновления плоти» начали течь, как расплавленный воск, – это не эликсир… это семя. Он сажает нас в себя, как в горшки.
Пятно духов закипело, выпустив пары с голосами: «Ты следующая, Карлотта… Ты следующая…» – шептали Эдуард и Лоренцо в унисон, пока страница не начала сворачиваться в трубку, сдавливая её пальцы челюстями из пергамента. Аннабель вырвалась, оставив на листе клочья кожи, но дневник уже захлопывался, выплевывая последнее предупреждение – крыло мотылька с выжженными словами: «Он придёт за твоими корнями».
Бумага здесь была тоньше, почти прозрачной, как кожа змеи, сброшенная во время лихорадки, а чернила въелись так глубоко, что буквы казались шрамами. «Ввела 3 капли экстракта в вену» – строчки пульсировали, будто вены на шее удушаемого, а дата «1923 г.» обвилась вокруг них корнями из засохшей крови. Аннабель провела ногтем по тексту, и страница застонала, выпустив запах гниющих лилий – тот самый, что витал в лаборатории Эдуарда, когда игла вонзалась в синеву материнской вены. На полях, вкривь и вкось, плясали каракули-пауки, сплетающие паутину вокруг фразы: «Зеркало показало мне 16-летнюю», но при ближайшем рассмотрении это оказались трещины, из которых сочился дым, складывающийся в лицо Карлотты – юное, но с глазами, затянутыми плёнкой грибка.
– Ты сияешь, – голос Эдуарда вырвался из дыма, его пальцы-лозы сжали плечи Карлотты в памяти, – как первый бутон после зимы. Скоро ты увидишь… – он повернул её к зеркалу, где отражение улыбалось девичьей улыбкой, но Аннабель заметила – чешуйки на шее матери, скрытые кружевным воротником, шевелились, как жаберные щели.
– А ты? – голос Карлотты в дневнике дрожал, смешиваясь с хрустом ломающихся крыльев за стеной. – Почему твоя кожа… дымится?
Эдуард рассмеялся, и его смех оставил на странице ожог в форме спирали. – Побочный эффект трансценденции. Дым – это старые клетки. Они сгорают, чтобы дать место новым.
Но на обороте листа, где Аннабель перевернула страницу, чешуйчатый налёт прилип к пальцам, липкий и холодный, будто слизь с подводных камней. Каждая чешуйка была микроскопическим зеркальцем, отражавшим правду: в памяти дневника Карлотта, дрожа, срывает перчатку – её рука покрыта панцирем из перламутровых пластин, стучащих, как костяшки домино, при каждом движении.
– Ложь! – она ударила кулаком по зеркалу, и стекло треснуло, обнажив глазницы из мицелия, откуда выполз Эдуард – уже не человек, а силуэт из спутанных корней и ртути. – Ты превращаешь меня в чудовище!
– Чудовище? – он схватил её за чешую, и та оторвалась с мокрым хлюпом, оставив рану, из которой выползли белые личинки с её голосом. – Ты становишься совершенством. Панцирь прочнее титана, кровь – чище серебра… – его слова прервал хруст – чешуя на руке Карлотты сомкнулась, сломав ему палец.
Страница дёрнулась, и Аннабель ощутила жжение в собственной ладони – чешуйки с оборота впились в кожу, прорастая под ногтями. Она попыталась стряхнуть их, но они запели – тонко, как комары, – напевая отрывок из дневника: «Эдуард кричал, что я покрываюсь чешуёй… но я видела только цветение». Внезапно текст пополз, буквы «16-летняя» распались на рой муравьёв, несущих в челюстях осколки зеркал. В каждом осколке – лицо Карлотты, но с кожей, как кора, и глазами, заросшими плесенью-паутиной.
– Он не хотел пугать тебя, – заговорил дневник голосом, ставшим вдруг мягким, как лепесток под прессом. – Он просто… не рассчитал дозу. Но разве красота не требует жертв?
На обороте чешуйки слились в карту Амазонии, где вместо рек текли вены Эдуарда, а на месте гор возвышались скрюченные позвоночники его «образцов». Аннабель прижала ладонь к карте, и та ожила – чешуйки зашевелились, впиваясь в кожу, втягивая её в память: Карлотта, спрятавшаяся в ванной, скребёт ножом по панцирю на груди. Кровь, густая как смола, стекает в раковину, где застывает чёрными жемчужинами с голосами внутри: «Убери это… убери это…».
– Перестань! – Эдуард выбивает дверь, его рука теперь ветвь с шипами, – Ты уничтожаешь прогресс! – он хватает её за волосы, и в зеркале Аннабель видит, как его тень вырастает рогами, пронзающими потолок.
Страница внезапно свернулась, зажав её пальцы, а чешуйки с оборота поползли вверх по руке, покрывая кожу панцирем из перламутра и стонов. Где-то в глубине библиотеки зазвенело стекло – Лоренцо наблюдал, смеясь тем же смехом, что и Эдуард. Аннабель вырвала руку, оставив на странице клочья кожи, но дневник уже шептал новую правду: «Он не ошибся в дозе. Он хотел, чтобы ты увидела… себя настоящую».
Бумага здесь была испещрена царапинами, будто кто-то когтями выскребал правду из слоёв лжи – строчки «ногти отпадают» извивались, как сороконожки, вокруг клякс, напоминающих отпечатки окровавленных подушечек пальцев. Аннабель провела рукой по тексту, и страница зашелестела, осыпая её ладонь искрами статического электричества, пахнущими горелым кератином. «Прозрачные, как крылья цикад» – буквы «цикад» трепетали, превращаясь в крошечные хитиновые осколки, вонзающиеся под ногти. Она сжала кулак, но боль оказалась сладкой, как укус осы, впрыскивающей морфин. Где-то в тексте зашипело:
– Он называл это метаморфозом, – голос Карлотты вырвался из абзаца, обжигая уши жаром перегретого стекла, – собирал их в шкатулку из ребёнка… того, что не выжил после инъекций. Говорил, что ногти – это письма, которые наша плоть пишет вечности.
На полях, в обрамлении жилок плесени, чернила сложились в рисунок: Эдуард, склонившийся над грудой прозрачных ногтей, его глаза – два пустых флакона, наполненных мухами. Аннабель коснулась изображения, и страница взвыла, выпустив облако пыльцы с голосами:
– Ты видишь узоры? – Эдуард в памяти дневника подносит ноготь к свету, и внутри, как в капле янтаря, копошится эмбрион с крыльями. – Это карта. Карта того, как мы сбежим от смерти.
– Они… живые? – Карлотта в отражении страницы сжимает окровавленную тряпку, её пальцы обмотаны проросшими бинтами.
– Живее нас, – он кладёт ноготь на язык, и тот тает, оставляя на губах блик, как от крыла стрекозы. – Они помнят каждый момент твоего преображения. Как ты сбрасываешь кожу… как я собираю твоё бессмертие по крупицам.
Аннабель взглянула на свои руки – ногти, ещё вчера розовые, теперь отливали синевой арктического льда, а под ними пульсировали чёрные жилки, повторяющие узор на странице. Она стукнула кончиком пальца по бумаге, и звук отозвался хрустальным звоном, как удар по тонкому стеклу. В трещинах между буквами выползли личинки-буквы, шепчущие:
– Он идёт. Он чувствует, когда опадает ноготь… слышит, как ломается панцирь…
Дневник дёрнулся, вырвавшись из рук, и раскрылся на середине – страницы слиплись кровяным нектаром, образуя трубу, из которой послышалось дыхание Лоренцо. Аннабель отпрянула, ударившись о стеллаж, и с полки упала шкатулка – костяная, с инкрустацией из тех самых прозрачных ногтей. Внутри, на бархате, цвета запёкшейся крови, лежал ноготь-серп с надписью: «Карлотта. 1924. Фаза линьки».
– Твоя очередь, – засмеялся дневник, и шкатулка захлопнулась, прищемив ей палец. Боль ударила волной мандрогорового крика, а когда она отдернула руку, ноготь мизинца отсутствовал – на его месте зияла дырка, из которой выползал червь с её лицом.
– Не бойся, – Эдуард возник в запахе горелой плоти, его рука, теперь ветвь с шипами, легла на её плечо. – Первая потеря – самая болезненная. Потом… – он дунул, и на месте раны вырос новый ноготь – прозрачный, с танцующими внутри тенями. – …ты научишься собирать себя сама.
Страница внезапно прилипла к её груди, буквы «коллекция» впиваясь в кожу, как пиявки. Аннабель сорвала её, оставив шрамы-татуировки, а дневник, падая, раскрылся на новой записи: «Сегодня отпал последний. Эдуард подарил мне перчатки из кожи тех, кто был до меня. Они шепчут по ночам: „Не становись сосудом“». Воздух наполнился хрустом ломающихся когтей, и Аннабель поняла – её ногти теперь звенели, как хрусталь, при каждом движении, а под ними пульсировало что-то, жаждущее вырваться наружу.
Бумага здесь была жёсткой, пропитанной запахом машинного масла и лаванды, а чертёж, выцарапанный словно когтями по пергаменту, пульсировал синью чернил, знакомой до мурашек – те же извивы труб, что висели в лаборатории Лоренцо, те же медные клапаны в форме сердец, что сейчас шипели в подвале виллы. Аннабель провела пальцем по схеме, и линии вздыбились, впиваясь в подушечки игольчатыми заусенцами, а где-то в глубине страницы заскрипели шестерни, перемалывая кости времени. – Ты всегда знала, – прошипел чертёж голосом Лоренцо, его слова сочились из обозначений «Дистиллятор v.3», – что это твоя колыбель. Ты же видела сны: медные стенки, пар, вырывающийся из клапанов-лёгких…
В углу, где бумага была истёрта до просвечивающих прожилок целлюлозы, детский рисунок дышал наивным ужасом: девочка с соломенным цветом волос и стеблем вместо шеи, увенчанным орхидеей, чьи лепестки были пронумерованы, как страницы учебника. «Аннабель, 5 лет» – подпись выведена пурпурным карандашом, теперь проклюнувшимся ростками сквозь бумагу. Она коснулась цветка-лица, и страница взвыла, выпустив облако пыльцы с голосами:
– Мама, почему у меня здесь болит? – детский голосок, её собственный, но пронзительный, как стекло, – Внутри что-то шевелится… как гусеница…
– Это твоя особость, – ответ матери, пропущенный через фильтр формальдегида, – Папа создаёт тебя совершенной. Скоро ты будешь цвести вечно.
Чертёж внезапно съёжился, линии превратившись в петли удавок, а из обозначения котла вырвалась тень – силуэт Эдуарда, склонившегося над миниатюрной моделью аппарата, где вместо колбы билось сердце ребёнка, опутанное проводами-жилами. – Гениально, правда? – он повернулся, его глаза – два шприца, наполненных мутным нектаром, – Твоя дочь станет первым гибридом, не теряющим человеческий облик. Представь: её кровь будет орошать корни, а корни – питать её.
Рядом с рисунком, в пятне засохшего сиропа, проступили детские ладони – отпечатки, оставшиеся от того дня, когда Аннабель впервые потрогала дистиллятор. Бумага в этом месте была шершавой от кристаллов сахара, растворяющихся сейчас в её поту, а под ними сквозили слова: «Папа сказал – я его лучший цветок». Внезапно линии чертежа ожили, медные трубки вырвались из страницы, обвивая её запястья раскалёнными удавами, а из клапанов повалил пар, пахнущий её детским шампунем.
– Не бойся, – Лоренцо возник в клубах, его пальцы, как плети плюща, скользнули по её щеке, – Ты всегда была частью машины. Эти трубки – твои вены. Этот котёл – твоё лоно.
Детский рисунок затрепетал, орхидея на лице девочки раскрылась, обнажив вместо тычинок зубы-иглы, и заговорила голосом, смешанным из её собственного и Карлотты: – Он встроил тебя в чертёж ещё тогда. Ты думала, игры в лаборатории были невинны? – бумага порвалась, и из разреза выползла кукла-марионетка с её лицом, нити которой тянулись к схеме дистиллятора. – Ты поливала свои корни сама… когда крутила вентили вместо колыбельной.
Аннабель рванулась назад, но страница прилипла к ладоням, чернила впитываясь в кожу, как черви-татуировки. На руках проступили схемы трубопроводов, а в ушах зазвучал гул насоса – тот самый, что будил её по ночам в детстве. – Спи, спиралька, – пела мать в такт механизму, – папа сделает тебя вечной…
В углу рисунка девочка вдруг замахала руками, её стебель-шея треснул, выпустив рой чёрных бабочек с надписями на крыльях: «Помоги». Чертеж аппарата загрохотал, циферблаты превращаясь в глазные яблоки, следящие за каждым движением, а Эдуард в углу страницы склонился над Аннабель-ребёнком, вкладывая ей в руку гаечный ключ вместо погремушки.
– Собирай себя, – прошипел дневник, и страница начала складываться, сминая её пальцы в бумажные жгуты, – ты же любила пазлы. Собери себя… прежде чем он сделает это за тебя.
Бумага здесь была рваной, словно её жевали в припадке бешенства, а края обтрепались в кровавые бахрому, из которых торчали волокна, похожие на спутанные нервы. Год «1947» выведен чернилами цвета запёкшейся раны, а строчка «Он подменил мои чернила!» извивалась, как повешенная, буквы «яд» вздулись пузырями, лопающимися при касании и выпускающими пар с запахом горького миндаля. Аннабель прижала ладонь к тексту, и страница зашипела, обжигая кожу кислотным потом, пока из разорванных волокон не выполз голос Карлотты – хриплый, разорванный:

