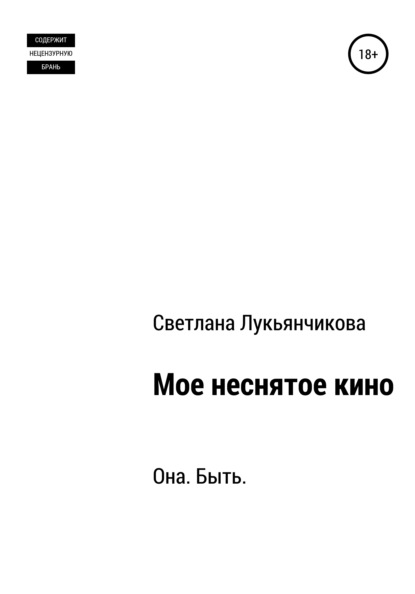- -
- 100%
- +

Предисловие
С самого детства меня преследовал один и тот же навязчивый вопрос, от которого не спрятаться ни в шуме дня, ни в тишине ночи: «Зачем я здесь?». Я, как и многие, пытался придумать для себя опору – красивую, прочную цель, которая осветила бы путь и придала бы каждому шагу осознанный вес. Но все эти построения рано или поздно рассыпались, как песочные замки под натиском волн, оставляя после себя лишь чувство тщетности и горьковатой пустоты.
И тогда я обратил взгляд вовне. Меня, тогда еще подростка, охватило не детское увлечение судьбой всего человечества. Я вглядывался в историю, в великие битвы и тихие революции, и видел не подвиги или даты, а нечто иное: хрупкое, почти невесомое пламя идей. Именно оно, это нематериальное пламя, способно было вести армии, рушить империи и заставлять обычных людей совершать необыкновенные поступки. Людей, готовых положить свою единственную жизнь на алтарь того, что они считали Истиной, Долгом, Свободой.
Прошло пять лет с той самой первой искры замысла. Пять лет размышлений, сомнений и поисков нужных слов. И вот результат – перед вами. Эта книга – не ответ, а приглашение к вопросу. Это история о том, как яркие идеалы, дарующие смысл, могут быть столь же хрупки, как стекло, и столь же опасны, как осколки. Это попытка показать, что стоит за готовностью человека отдать всё за абстракцию, за образ будущего, которое он никогда, возможно, не увидит.
Я не питаю страсти к книгам как к предметам. Но я страстно верю в силу истории, способной стать мостом между душами. К сожалению, я не могу сесть рядом с каждым из вас, чтобы поговорить по душам, разделить чашку чая и обсушить эти вечные темы. Поэтому я предлагаю вам нечто иное – часть самого себя, мои сокровенные переживания, облеченные в форму художественного повествования.
Эта книга – для всех. Для тех, кто обучен не только грамоте, но и суровой, прекрасной грамматике жизни, какой бы она ни была. Она для тех, кто не боится задавать неудобные вопросы и чья душа еще не покрылась панцирем равнодушия.
Так давайте же начнем наш тихий, заочный разговор. Переверните страницу – и позвольте моей истории встретиться с вашей.
Глава первая. «Падение».
Небеса больше не были бездной света – они стали зеркалом, отражающим одинокую фигуру внизу. Ангел смотрел сквозь туман времени, сквозь пелену дождей и ветров, сквозь пыль человеческих дорог, туда, где Аластор, словно пламенный столп, стоял среди толпы, и слова его жгли сердца, как угли, брошенные в сухую траву. Когда-то он был лишь голосом, лишь тенью истины, но теперь… теперь он стал больше, чем посланник. Он стал иконой.
Люди тянулись к нему, не к Богу, не к вере, а к нему – к его пламенным глазам, к его голосу, дрожащему, как струна перед разрывом. Они молились не на небо, а на него, и в их взглядах читалось не благоговение перед Творцом, а слепое, жадное обожание. Они любили его больше, чем Того, чьи слова он нес.
Ангел чувствовал, как что-то внутри него рвется.
«Они идут не к свету… Они идут к факелу, который однажды погаснет…»
Он видел, как Аластор, сам того не желая, становился идолом. Видел, как его проповеди превращались в зрелище, как слезы кающихся смешивались с восторженными криками, как вера подменялась экстазом. И самое страшное – Аластор не замечал этого. Он верил, что служит, но служил уже не Богу, а их жажде чуда.
«Они потеряны…»
Тьма сгущалась. Не та, что приходит ночью, а та, что ползет изнутри, когда душа отворачивается от истины, даже не понимая этого. Ангел чувствовал, как небеса вокруг него становятся тяжелее, как звезды гаснут одна за другой, словно в предчувствии конца.
И тогда он принял решение.
Мысли Ангела, казалось, бежали быстрее времени:
«Если они не видят свет – я стану для них проводником к нему. Если они идут не к нему – я встану на их пути.
Видел я его в дни зарождения пути, когда сердце его билось в унисон с ритмом мироздания. Как саженец, пробивающийся сквозь камень, рвался он к свету, ибо верил, что корни его – в правде, а крона – в милосердии. Говорил он тогда: «Воздвигну храм, где каждый камень – справедливость, а каждый гвоздь – сострадание». И я, страж незримый, осенял его чело росой надежды, шептал ветрами: «Иди, ибо избрал тебя Господь быть мостом меж небом и прахом».
Но вот, о горе! Взгляни ныне на него – кузнец, кующий цепи из благородных слов. «Свобода», – кричит он, а руки его опутаны паутиной гордыни. «Порядок», – вещает, но стопы его попирают сердца смиренных. О, Аластор! Неужели не видишь, как тень твоя пожирает свет, что я в тебя вдохнул? Ты стал зодчим Вавилона, где башни – из костей вопиющих, а раствор – из слёз сирот.
И народ… о, народ сей! Как овцы, что ищут не пастыря, а мясника, идут они за тобой, ибо сладки речи твои, как мёд, смешанный с желчью. «Он даст нам силу», – ропщут они, но сила сия – петля на шее их душ. «Он избавит от страха», – молвят уста их, но страх сей лишь сменил личину, став рабством добровольным.
Горе тебе, Аластор, ибо посеял ты пшеницу, а пожнёшь тернии. Горе последователям твоим, ибо пили они из чаши твоей и не узрели, что отравлена она. Как Иерусалим, что побил пророков, так и ты побил правду в себе. И вот, плач слышится в высях – то Ангелы скорбные роняют слёзы в реки времени. Даже звёзды ныне прячут лица свои, дабы не видеть, как искра святая в тебе гаснет.
Но знай: не оставлю тебя, даже если путь твой ведёт в бездну. Ибо воля Того, Кто выше нас, – не судить, но ждать. Ждать, пока последняя капля света в груди твоей не возопит: «Довольно!» И тогда, о Аластор, падёшь ты на колени не пред силой, но пред тишиной, что громче всех речей твоих. И услышишь ты глас, что шептал тебе в юности: «Возвратись…»
Он больше не мог наблюдать. Не мог ждать.
Он шагнул в бездну.
Воздух вокруг него загорелся, небеса разверзлись, и он падал, как падает оторванная ветвь, как падает звезда, предавшая небо. Пламя лизало его крылья, превращая их в пепел, плоть нарастала на его костяке, тяжелая, грубая, смертная. Он чувствовал, как божественное в нем гаснет, как его сущность сжимается в комок боли, как мир внизу приближается – огромный, жестокий, полный криков, пыли и крови.
Он упал.
Земля содрогнулась.
Прах разлетелся в стороны, и в глубокой яме, словно в ране мироздания, лежал теперь человек – с разбитыми руками, с горящими глазами, с сердцем, полным гнева и скорби.
Он поднялся.
«Я остановлю тебя…»
Ветер шептал ему, что он больше не ангел.
Но это не имело значения.
Теперь он был падением. Теперь он был возмездием.
И он пойдет к ним.
Ангел упал с небес, как когда-то пал Аластор – не в бездну греха, а в пучину человеческой боли…
Тем временем где-то далеко за городом в лесу ярко разгорался огонек, освещая тихое, маленькое местечко, где изредка собиралась старая дружная компания, веселье которой нарушала покой природы.
Аластор сидит у костра, его лицо освещено пламенем, в глазах – холодный расчет. Он медленно поворачивается к «Рахиль», которая смотрит на него с недоверием.
Аластор с усмешкой:
– Ты всё ещё сомневаешься в моих намерениях, Рахиль? Или просто боишься, что твои собственные страхи окажутся правдой?
Рахиль с холодом:
– Я не боюсь иллюзий. Но я вижу, во что превращается твоя истина. Ты стремишься к идеалу, но твое совершенство – это камень на шее у тех, кто не дотягивает.
Аластор наклоняется ближе, голос становится тише, почти шёпотом:
– А разве не так устроен мир. Одни поднимаются, другие остаются в пыли. Ты могла бы быть среди первых, Рахиль. Сила, ясность, безупречность – всё это я могу дать тебе.
Рахиль, сжимая кулаки:
– Ты предлагаешь мне стать твоей тенью? Или, может, очередным орудием в твоих играх?
Аластор рассмеялся, но в глазах – опасный блеск:
– Орудие? Нет. Ты слишком ценна для этого. Но если ты откажешься…ты станешь препятствием. А препятствия я устраняю.
Рахиль встаёт, её голос дрожит от гнева:
– Ты не изменился. Всё тот же змей, что шепчет сладкие слова, чтобы потом ужалить. Я ухожу.
Аластор спокойно, но с угрозой:
– Уходи. Но помни: когда мир восстанет от из пепла собственных пороков, ты вспомнишь этот разговор. И пожалеешь, что не была на моей стороне.
Рахиль уже отходя, оборачивается:
– Лучше сгореть в огне правды, чем гнить в твоём "раю".
Глава вторая. «Босые ноги на камнях».
Первое, что Он ощутил – тяжесть. Не боль, не страх, а глухое сопротивление материи, будто вода внезапно стала смолой. Небесные ризы истончились, распались на нити света, а на их месте нарастала плоть – медленно, как воск, стекающий по свече. Кожа проступала пятнами: на запястье – гладкий островок, на ключице – багровый шрам от несуществующей раны, на ладони – мозоль, будто от вековой работы с плугом. Он смотрел на свои новые руки, чуждые и хрупкие, и думал не о чуде, а о уязвимости.
«Так вот ты каков, прах земной… Дом для духа – тесный, слабый, вечно голодный».
Город обволакивал его новую кожу, как кислота. Стеклянные башни города резали небо, оставляя на нем кровоточащие шрамы. Воздух гудел – не звуком, но усталостью, выдыхаемой миллионами легких. Ангел чувствовал каждый вдох как гвоздь в ребрах.
Он стоял в переулке. Мир обрушился на Него не звуками – смыслами. Запах гниющих овощей из мусорного бака был гимном тлению. Крик ребёнка в соседнем дворе – псалмом невинной ярости. Реклама на стене («Райский отдых за 99 монет!») – кощунственной пародией на Вечность.
Старик в заляпанном фартуке рубил телячью тушу. Пригородный базар встретил его звуками обрыванием мяса под ножом.
«Смерть пахнет свежестью», —» подумал Он, глядя, как старик в фартуке, пропитанном жизнями, рубит телячью ногу. Топор впивался в мраморную плоть с мокрым чавканьем. Кровь стекала в желоб, как вино в чашу греха…
«Жизнь кормит жизнь… – продолжил размышлять Ангел. – Но когда же вы научитесь благодарить Того, Кто дал первую жертву?»
Хозяин, поймав Его взгляд, буркнул:
– Купить что ли? Или просто глазеешь?
– Смотрю, как ты священнодействуешь, – ответил Ангел.
Старик замер, топор в руке дрогнул:
– Это… сарказм?
– Нет. Ты отделяешь кость от мяса. Так же и душа должна отделяться от греха. Но твой нож – острее.
Старик покраснел, смущённо вытер руки:
– Может, выпить чаю?.. Странный ты.
Парк дышал прелыми листьями и детским плачем.
Деревья стояли, как пленные солдаты, прикованные к земле бетонными ошейниками. Ангел сел на скамейку, чьи доски кричали под Ним от набухшей влаги.
Девушка кормила голубей. Крошки падали на асфальт, птицы клевали, дрались, взлетали в спешке.
«Хлеб наш насущный… – мысль Ангела была горькой. – Но вы превращаете дар в подачку, а благодарность – в привычку».
Он подошёл. Птицы не улетели. Одна села Ему на плечо, доверчиво ткнулась клювом в воротник.
– Они вас не боятся, – удивилась девушка.
– Потому что я не несу ни крошки, – сказал Он. – Только пустые руки.
– Зачем тогда здесь?
– Учусь. Смотреть. Слышать. Чувствовать голод… который не о хлебе.
Девушка смяла пакет:
– Глупости. Голод всегда о хлебе.
– Да? – Ангел коснулся пальцем её запястья. Там был тонкий шрам – след от лезвия. – А этот голод?
Она отшатнулась, глаза расширились от боли и гнева:
– Откуда?!
– Раны кричат громче слов. Особенно те, что нанесены себе в тишине.
Она убежала. Голуби взметнулись за ней белым вихрем.
Автобусная остановка была кладбищем времени.
Люди стояли, уткнувшись в экраны. Свет от них падал на лица, делая их плоскими, как бумажные иконки.
Подросток в наушниках бил ногой по рекламной тумбе. «Бам-бам-бам!» – ритмично, зло.
«Гнев без цели… – Ангел слушал этот стук. – Как молоток по гвоздю, которого нет. Ты бьешь по миру, но ранишь лишь себя».
Он сел рядом. Подросток презрительно скосил глаза:
– Место занято.
– Стена свободна? – Ангел кивнул на тумбу.
– А тебе какое дело?
– Больно ей.
– Чего?!
– Слышишь? Она стонет. От каждого удара.
Подросток сдёрнул наушники:
– Ты псих?
– Нет. Просто знаю, что даже камни помнят боль. Особенно те, что терпят бессмысленные удары.
Парень замолчал. Перестал бить. Достал сигарету, но не закурил. Сжал в кулаке.
– Пошёл ты… – буркнул он без злобы.
Автобус подъехал. Он ушёл, не оглянувшись. На тумбе остался след – вмятина, похожая на плачущий глаз.
Мост висел над рекой, как самоубийца над пропастью.
Вода несла в себе весь город: окурки, пакеты, отражения фальшивых звезд – неоновых вывесок корпораций. Ангел прислонился к перилам. Холод металла въедался в плоть. ««Ты сошел в ад. Но ад – не огонь. Ад – это ледяное равнодушие».
Вдруг – крик. Женщина роняла сумку, апельсины покатились под ноги прохожих. Она металась, ловя их, но люди обходили, торопясь. Лишь старушка в платке пригнулась, подала ей один плод:
– Держи, дочка… Не плачь.
Женщина всхлипнула:
– Спасибо… Просто… устала.
Ангел наблюдал. В Нём родилось нечто новое – сострадание без жалости. Не «бедный человек», а «вот она – слабость, сотворённая для преодоления». Он подошёл, поднял последний апельсин. Отдал женщине. Их пальцы коснулись.
– Вам тоже плохо? – спросила она, всматриваясь в Его лицо.
– Нет, – ответил Ангел. – Мне… интересно.
– Странный вы, – она слабо улыбнулась.
– Да. Но ваша усталость – как мост. Между тем, кто вы есть, и тем, кем станете после отдыха. Не ломайте его гневом.
Она кивнула, не поняв до конца, но успокоившись.
Он увидел его издалека – колокольня пробивала слой городской копоти, как последний палец утопающего, вцепившийся в край неба. Белокаменные стены казались шрамом на лице бетонного чудовища – некрасивым, настырным, живым. Ангел почувствовал, как камень в Его новой груди дрогнул и стал легче.
Храм стоял. Не прекрасный. Не величественный. Раненый, но не сломленный – как свеча, горящая в подвале затопленного корабля.
Воздух здесь пах иначе: не выхлопом и пылью, а теплом воска и горечью ладана – как дыхание спящего великана, еще хранящего силу. Сквозь гул машин пробивался звон колокола – не громкий, но упрямый, будто сердце, бьющееся под грудой развалин.
Свечи у икон плавились, как золотое время.
Ангел стоял в тени. Его человеческая плоть дышала ладаном.
«Вы просите крохи у Того, Кто готов дать Царство… – думал Он. – Но даже в этой скупости – чудо. Вы помните, что Царство – есть. Пусть представляете его как больницу, банк или суд…»
К Нему подполз ребёнок. Мальчик лет четырёх. Ткнул пальцем в Его руку:
– Ты царь?
– Нет.
– А почему в белом?
– Потому что ещё не испачкался.
– Я тоже! – мальчик показал ладошки. Чистые. – Мама сказала: в церкви надо быть как ангел.
Ангел коснулся его головы:
– Она права. Ты и есть – ангел.
Мальчик засмеялся и убежал.
И только тогда Ангел подошёл к алтарю.
«Кто он?..» – пронеслось в голове священника, когда он почувствовал холодный ветерок у спины. В храме не было сквозняков.
Он медленно обернулся.
У алтаря стоял юноша. Слишком высокий, слишком светлый, слишком… нездешний. Его глаза были как два озера, в которых отражалось небо – не то, что висит над городом, а то, что было «до». До падений, до греха, до этой бесконечной ночи.
– Во всякую лампаду нужно доливать масло, – сказал отец Адриан, сжимая в потных ладонях склянку с елеем. «Почему дрожат руки? Почему во рту пересохло?»
Юноша не ответил сразу. Он смотрел на иконостас, но взгляд его проходил «сквозь» него, будто видел что-то за стенами, за временем.
– Она может погаснуть, даже если масла хватит на века, – наконец произнёс он. Голос был тихим, но каждое слово падало в тишину, как камень в воду. – Если ветер бури погасит пламя, кто зажжёт его снова?
«Что он знает?..» – мелькнуло у священника. После длинного молчания:
– Ты не из этого мира, – прошептал отец Адриан.
Юноша наклонил голову, и в этом движении было что-то… «нечеловеческое». Как будто шевелились не мышцы, а сама реальность вокруг него.
– А разве этот мир ещё достоин своих небес? – спросил он.
Дверь с грохотом распахнулась. Вбежал дьякон, бледный, с трясущимися губами.
– Отец! Они снова пришли! С документами, с приказами…
Священник резко поднял руку, прерывая его. Глаза его не отрывались от незнакомца, лишь одна мысль крутилась в голове:
«Кто ты? Вестник или судья?..»
Ангел вышел из храма, и тяжёлые дубовые двери закрылись за ним с глухим стуком, отсекая тихий гул молитв, запах воска и ладана. Вечерний воздух встретил его кислотным дыханием города – гарью, выхлопами, пылью, пропитанной человеческой усталостью. Он сделал шаг вперёд, и его белые одежды, ещё хранившие отблеск храмовых свечей, на мгновение вспыхнули в сумеречном свете, а затем потускнели, вбирая в себя серость окружающего мира.
«Во всякую лампаду нужно доливать масло», – сказал ему отец Адриан.
Слова священника звучали в его сознании, как далёкий колокольный звон. Не упрёк, не наставление – констатация факта. Лампады гаснут. Масло заканчивается. И руки тех, кто должен подливать его, дрожат от бессилия или равнодушия.
Ангел остановился на паперти, ощущая под босыми ногами шероховатость старых камней, стёртых миллионами шагов. Он не знал, куда идти. Город раскинулся перед ним, как лабиринт из стекла и бетона, где каждая улица вела в тупик, а каждый человек нёс в себе собственную бездну.
Он вспомнил взгляд отца Адриана – усталый, но не сломленный. В нём ещё теплился огонь. Не яркий, не ослепительный, но упрямый.
«Священник – уста Божии», – пронеслась у него цитата внутри слова Златоуста. «И если он немощен телом, то силен духом, ибо не он говорит, но благодать через него».
Но была ли в этом мире ещё благодать?
Ангел спустился по ступеням и шагнул в город.
Тени удлинялись, поглощая остатки дневного света. Он шёл медленно, не скрываясь, но люди словно не замечали его – их взгляды скользили мимо, уставшие, пустые, обращённые внутрь себя или в мерцающие экраны телефонов. Воздух гудел от машин, рекламных джинглов, отрывков бессмысленных разговоров.
И вдруг – тишина.
Не настоящая, конечно. Просто резкий контраст. Ангел остановился у узкого переулка, зажатого между двумя высотками. Здесь не было толп, не было ярких вывесок – только облупившаяся штукатурка, граффити, запах мусора и старой плесени.
И крест.
На стене, почти скрытый слоями краски и грязи, но всё ещё различимый – грубо нарисованный, возможно, детской рукой или верующим, который уже давно исчез в недрах этого города. Линии были неровные, краска потрескалась, но форма оставалась узнаваемой.
Ангел замер.
Ветер рванул снова, сорвав клочок афиши, прикрывавшей часть стены. И в этот момент солнечный луч, пробившийся сквозь разрыв в облаках, упал прямо на крест.
На миг он вспыхнул.
Не сверхъестественным светом – просто старые краски, вдруг ожившие под солнцем. Но для Ангела этого хватило.
«Знак», – подумал он. – Не чудо. Напоминание».
Даже здесь, среди грязи и забвения, что-то сопротивлялось.
Он протянул руку, коснулся стены. Камни были холодными, шершавыми, но под пальцами он почувствовал лёгкую вибрацию – как будто сама земля, под асфальтом и бетоном, ещё помнила, что когда-то здесь молились.
Когда Ангел вернулся в храм, сумерки уже сгустились. Окна светились тусклым золотом, а тени от свечей дрожали на старых фресках.
Глава третья. «Тень на краю».
Фрески Страшного Суда на сводах храма казались живее прихожан. Лики святых, написанные древними мастерами, смотрели вниз с безмолвным укором, будто видя сквозь века, как их предостережения забыты. Ангел сидел на дубовой скамье у стены, его пальцы лежали неподвижно на коленях – не в молитве, а в ожидании. Рядом, сгорбившись, сидел отец Адриан. Его лицо, изрезанное морщинами, напоминало высохшую глину – потрескавшуюся, но все еще крепкую.
– Они больше не боятся, – прошептал священник, не поднимая глаз. – Не Бога, не греха, не вечности. Они боятся только… не успеть насладиться тем, что считают жизнью.
Ангел не ответил сразу. Его взгляд скользил по ликам святых, останавливаясь на одном – изможденном лике мученика, чьи глаза, казалось, смотрели прямо в душу.
– Они построили башню, – наконец сказал он. – Высокую, крепкую, без окон. И теперь удивляются, почему внутри так темно.
Отец Адриан вздохнул, перекрестился.
– Вчера исповедовал банкира. Говорит: «Я не ворую, не убиваю, жене не изменяю. В чем мне каяться?» А когда спросил, помнит ли он, когда последний раз плакал, тот засмеялся.
– Они заменили душу на кошелек, – Ангел повернул голову к священнику. – Но есть и другие.
– Если бы… – старик провел рукой по лицу, словно стирая невидимую пыль усталости. – Но их все меньше. Вот, слышал… – голос его понизился до шепота, – говорят, в городе появилась тень. Убийца. Холодный, как лезвие. Ни следов, ни ошибок. Говорят, он режет тех, кто стоит у власти, будто вырезает гниль из яблока.
Ангел не изменился в лице. Но в глубине его глаз, словно отблеск далекой молнии, промелькнуло знание.
– Как его зовут?
– Аллектор. Хотя… может, это просто слухи.
Ангел встал. Его белые одежды, простые и длинные, не шелохнулись, будто сотканы из самого воздуха.
– Нет. Это не слухи.
Он вышел, не попрощавшись.
Аллектор не считал секунды. Он чувствовал их.
«Три. Два. Один.»
Лезвие вошло в шею министра ровно в тот момент, когда тот наклонился, чтобы поднять упавшую перчатку. Беззвучно. Без борьбы. Идеально.
Аллектор уже отступал в тень, когда услышал шаги на лестнице. Быстрые. Не полиция – те шли бы громче. Он резко развернулся, рука потянулась, сжала стилет, готовясь к новому удару…
И замерла.
В проеме между колоннами стоял Он. Высокий, в белых одеждах, лицо – спокойное, как поверхность озера перед бурей.
– Они уже идут, – сказал Ангел. – Ты опоздал на семь секунд.
Аллектор не дрогнул. Его голос был ровным, как линия горизонта.
– Кто ты?
– Тот, кто предлагает выбор.
– У меня его нет.
Ангел шагнул ближе. Внизу уже раздавались крики, металлический лязг оружия.
– Они обыщут каждый угол. Ты не уйдешь.
Аллектор сжал стилет.
– Ты все подстроил.
– Нет. Но я знал, где ты будешь.
Шаги приближались. Ангел протянул руку.
– Идем.
Аллектор не двинулся.
– Зачем?
– Чтобы показать тебе правду.
– Я ее уже знаю.
– Нет. Ты знаешь только половину.
Их взгляды скрестились – лед и пламя.
Крыша. Город внизу – холодный, сверкающий, мертвый.
– Ты режешь ветви, – сказал Ангел. – Но корень жив.
Аллектор стоял неподвижно. Его тень, длинная и острая, лежала на камнях, как еще одно лезвие.
– Значит, нужно вырвать корень.
– Ты не сможешь.
– Я уничтожу всех, кто к нему причастен.
Ангел покачал головой.
– Они – лишь симптомы. Болезнь глубже.
– Тогда в чем твое решение? Молитвы?
– Жертва.
Ветер подхватил это слово, унес в ночь.
Аллектор не улыбнулся.
– Жертвы бесполезны. Мир пожирает их, даже не заметив.
Ангел посмотрел на него. Взгляд был тяжелым, как камень на могиле.
– Однажды он подавится.
Аллектор отвернулся.
– Я не верю в сказки.
– Ты веришь в справедливость.
– Справедливость – это иллюзия.
– Нет. Это цель.
Тишина. Где-то вдали завыла сирена.
– Зачем ты пришел? – спросил Аллектор.
– Потому что ты последний, кто еще может увидеть.
– Увидеть, что?
– Тьму перед рассветом.
Ангел сделал шаг назад.
– Мы встретимся снова.
– Нет.
– Это не от тебя зависит.
И он исчез, словно растаял в лунном свете.
Аллектор всегда старался отсекать лезвием свои мысли, но в этот раз они нахлынули без возможности их заглушения:
«Ошибка. Он допустил ошибку. Я не верю в рассвет. Нет рассвета для мира, который умер, даже не осознав этого. Я – нож. Инструмент. Инструменты не видят, не сомневаются, не надеются. Они режут. Пока не затупятся. Пока их не сломают.»
Он посмотрел на стилет в своей руке. Лезвие блестело, чистое, будто и не касалось крови.
«Он думает, что я что-то почувствую? Что во мне есть что-то, кроме пустоты? Нет. Я – тень. Тени не боятся света. Они его поглощают.»