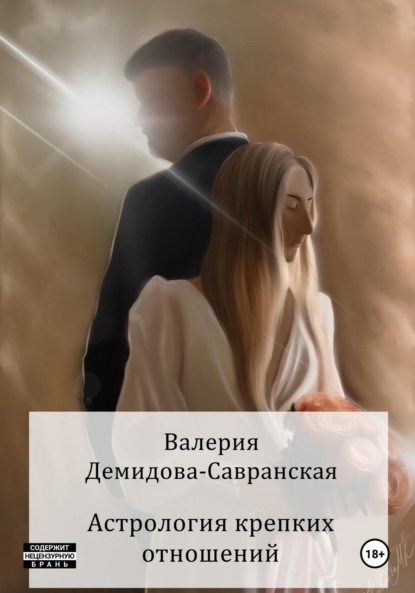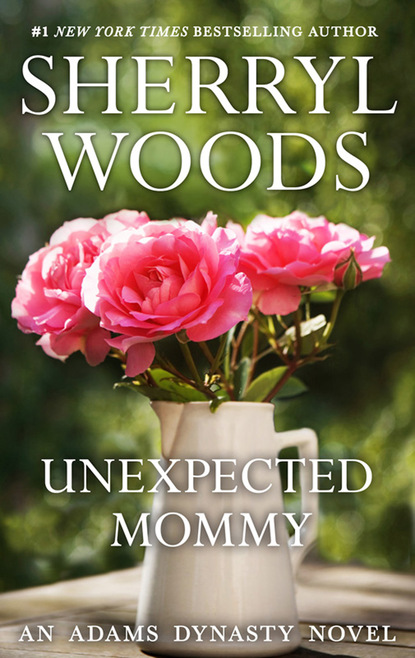- -
- 100%
- +
– Ты сегодня на вечерне будешь? – спросила она.
– Не знаю.
– Почему?
Он вздохнул. Ему хотелось ответить честно, но как объяснить то, что он и сам не до конца понимал?
– Мне тяжело там.
– Тяжело?
– Да. Потому что я вижу тебя. И понимаю, что мне до тебя – как до неба.
Она не ответила сразу. Ветер шевельнул её платок, и на мгновение ему показалось, что это не просто ткань – а что-то живое, светлое, почти невесомое.
– Ты думаешь, я не борюсь? – наконец сказала она. – Что мне всё даётся просто?
Он посмотрел на неё удивлённо.
– Разве нет?
– Нет. Просто я не боюсь ошибаться. Ты же… ты всё время стараешься быть «правильным». Как будто Бог – это экзамен, который надо сдать на пятёрку.
Он замер.
– А разве не так?
– Нет, – она покачала головой. – Он же Отец.
Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Вдруг он «почувствовал» – не умом, а чем-то глубже – что она права. Что он всё это время шёл по тонкому льду, боясь провалиться, а она… она просто шла по воде.
Прошли недели. Они виделись редко – он по-прежнему избегал лишних встреч, но теперь уже не из-за страха, а из-за странного, нового чувства, которое не мог определить.
Однажды они сидели на скамейке у храма. Вечер. Воздух был наполнен звоном колоколов и запахом цветущей черёмухи.
– Знаешь, – сказал он вдруг, глядя куда-то вдаль, – я всегда думал, что святость – это что-то далёкое. Как горная вершина. А ты… ты святая «здесь». В этой земной, обычной жизни.
Она улыбнулась, но в её глазах мелькнула грусть.
– Я не святая. Я просто люблю.
– Меня? – спросил он неожиданно для себя.
Она посмотрела на него, и в её взгляде было столько «знания», будто она видела его насквозь – все его страхи, все сомнения, всю эту мучительную борьбу между желанием быть рядом и страхом осквернить её своей нечистотой.
– Тебя – да. Но не так, как ты подумал.
Он кивнул. Ему не было больно. Наоборот – в её словах была какая-то освобождающая правда.
– Я тоже люблю тебя, – прошептал он. – Но не как мужчина любит женщину. А как… как путник любит звезду, которая ведёт его.
Она протянула руку и на мгновение коснулась его ладони.
– Тогда иди за мной. Но не слишком близко – чтобы не заслонять свет.
Он закрыл глаза. Где-то вдали звонили колокола, и казалось, что это не просто звук – а голос, зовущий его «домой».
Она умерла в конце лета, когда воздух уже начинал отдавать прелой листвой, а небо становилось высоким и холодным. Случилось это внезапно – так внезапно, что он сначала не поверил. Говорили, что сердце. Говорили, что врождённый порок, о котором она знала, но молчала. Говорили многое, но он не слышал. В его ушах стоял только один звук – тишина после взрыва.
Он стоял у её гроба, сжав кулаки до боли, и смотрел на её лицо, которое казалось теперь неземным – слишком бледным, слишком спокойным, слишком «чужим».
«Как?» – билось в висках. «Как Ты мог? Как Ты посмел? Она была Твоей! Больше, чем Твоей – она была Тобой! В ней горел Твой свет, она дышала Твоим именем, она… она…»
Но слова рассыпались в прах, потому что молитвы не было. Была только ярость.
Ночь после похорон. Пустая комната. Он сидел на полу, прижавшись спиной к стене, и смотрел в темноту. В голове крутились обрывки мыслей, как псы, рвущие куски мяса.
«Ты знал. Ты всегда знал. Ты видел, как я боролся, как пытался дотянуться до неё – до Тебя через неё. И Ты просто… забрал её. Без предупреждения. Без объяснений. Как вор, крадущий самое дорогое под покровом ночи.»
Он схватился за голову, ногти впились в кожу.
«Нет. Нет, я не имею права. Она была Твоей прежде, чем моей. Но почему тогда… почему это так больно? Почему я чувствую, будто Ты не просто взял её – Ты вырвал её, оставив рваную рану, которая никогда не затянется?»
Он засмеялся – горько, истерично.
«И ведь самое мерзкое – я даже злиться на Тебя по-настоящему не могу. Потому что знаю, что Ты – Бог. Потому что она бы меня остановила. Она бы сказала: «Не гневись, это Его воля». Но её нет. Её больше нет. И я…»
Голос сорвался в рыдание.
Прошли дни. Недели. Месяцы.
Он больше не молился. Вернее, молился, но не так, как раньше. Его молитвы стали обвинениями, криками в пустоту, попытками докричаться до Неба, которое вдруг стало глухим.
Он ходил по улицам и смотрел на людей – спешащих, смеющихся, живущих.
«Они не знают. Они даже не подозревают. Они думают, что мир – это работа, деньги, удовольствия. Они забыли, что за всем этим стоит Он. Что каждое их дыхание – Его дар. Что смерть ходит рядом, и завтра может не наступить.»
В глазах у него горел странный огонь – не веры, не отчаяния, а чего-то третьего. «Кто-то должен напомнить им. Кто-то должен закричать.»
Он стоял на паперти храма, где когда-то видел её впервые, и смотрел на толпу. Его взгляд прожигал людей насквозь – ледяной, безжалостный, полный презрения к этому миру, который даже не заметил, как потерял что-то святое. Они шли мимо, погружённые в свои мелкие заботы, и в его глазах читалось лишь одно: вы даже не понимаете, как далеко забрели. Вы забыли Бога.
И за это вам никогда не будет прощения.
Мир шёл дальше.
А он остался.
Прошло два года. Боль не утихла. Она кристаллизовалась, стала холодным камнем в груди Аластора. Он не проклинал Бога. Он «изучал» Его. Дни и ночи в библиотеке семинарии (куда его, чудом, еще терпели) сливались в один поток: Святые Отцы, богословские трактаты, истории мучеников и святителей. Он искал не утешения – он искал «логику». Закономерность в том хаосе страдания и милости, что называли Промыслом.
Однажды, поздно ночью, над толстым фолиантом святого Григория Паламы, его настигло. Не озарение – «приговор». Текст говорил о синергии, о соработничестве человеческой воли и Божественной благодати. Аластор читал строки о подвижниках, чья воля, устремленная к Богу, делала их сосудами благодати, способными на невозможное. И вдруг – «щелчок» в сознании, холодный и ясный.
«Вот оно.»
Он откинулся на спинку жесткого стула. Свеча на столе коптила, отбрасывая гигантские, трепещущие тени его фигуры на стены, заваленные книгами. В этих тенях ему виделись лики святых – суровые, аскетичные, «действующие». Они не ждали милости – они «творили» ее, силой своей веры и воли.
«Она была сосудом. Чистым. Готовым. Но… недостаточным? Или…» – мысль замерла, потом оформилась с леденящей точностью: «Или «система» сломана? Мир слишком тяжел, слишком испорчен, чтобы чистота одного сосуда могла его изменить. Благодать есть, но канал… забит грехом мира. Нужен… «механизм». Нужна «сила», чтобы расчистить канал, чтобы благодать не капала по капле на избранных, а лилась рекой на всех.»
Он встал и подошел к окну. За ним спал город – темный, несовершенный, полный страха и нужды. Тот самый город, который прошел мимо ее гроба, не заметив потери света.
«Бог хочет спасения всех. Но мир сопротивляется. Человеческая воля слаба, погрязла в суете. Он посылает святых – маяков. Но маяки гибнут в буре человеческого равнодушия и зла.» Он сжал кулаки. Не в гневе. В «решимости». «Значит… нужно изменить не людей поодиночке. Нужно изменить «среду». Создать такой порядок, такую «систему», где злу не будет места для роста. Где человеческая воля, освобожденная от страха и нужды, сама потянется к свету. Где благодать… не будет нужна как костыль, потому что праведность станет нормой, заложенной в самой структуре бытия.»
Это было не отрицание Бога. Это было… «гипертрофированное принятие Его воли». Аластор видел себя не богоборцем, а… «исполнителем». Теми самыми Божьими руками в мире, о которых говорил Исайя. Только руки эти должны были быть не кроткими, а железными. Не молящимися – «действующими». Он брал на себя невероятное бремя: не просто нести свой крест, но «нести крест всего мира». Взять на себя ответственность за осуществление Царства Божьего «здесь и сейчас», средствами мира сего.
Он повернулся от окна. Взгляд упал на раскрытую книгу. Свеча догорала, фитиль тонул в воске. Последний язычок пламени дрогнул и погас. Комната погрузилась в почти полную тьму. Лишь слабый свет фонаря с улицы выхватывал контуры книг, стол, его неподвижную фигуру.
Во тьме прозвучали его слова, тихие, но твердые, как клятва перед алтарем:
«Ты не смог… или не захотел спасти ее в «этом» мире. Твой Промысел… слишком медлителен для горящего дома. Значит, я построю «новый» дом. Дом без огня. Где такие, как она, не будут гореть, чтобы осветить другим путь во тьме. Я приму этот Крест. Я стажусь Твоим… «инструментом порядка». Даже если путь будет лежать через власть, которую Ты отверг в пустыне. Даже если жертвой станет… тишина молитвы.»
Он не плюнул на крест. Он «возложил его на свои плечи», решив нести за всех. Он не оставил Бога – он «заменил» Его терпеливую, многовековую работу по спасению душ – грандиозным проектом спасения «тела» мира, созданием рая на земле, где душам, по его мысли, уже не понадобится спасение в прежнем смысле. Религия не отрицалась – она объявлялась «устаревшим этапом», как детские свивальники. Ее тихо, методично, должен был заменить Совершенный Порядок.
На следующее утро Аластор подал прошение об отчислении из семинарии. На вопрос удивленного наставника: «Куда же ты, чадо?» – он ответил просто, глядя куда-то поверх его головы, в будущее:
«Туда, где нужны не слова, а дела. Где строят не храмы души, но крепости для душ.»
Глава восьмая. «Первый камень нового храма».
Рахиль сидела, обхватив руками чашку с остывшим чаем, её голос, до этого звучавший ровно и печально, дрогнул на последних словах:
– «Он не просто отвернулся от Бога… Он решил, что может заменить Его».
В этот момент раздался резкий звук скрипа двери – не громкий, но настолько чёткий, что все вздрогнули, будто он прозвучал не в дерево, а прямо в их мысли. Отец Адриан обернулся, дьякон замер с полуоткрытым ртом, Рахиль резко замолчала. В комнате повисла тишина, тяжёлая, как предгрозовое небо.
Дверь была закрыта.
– «Он ушел», – прошептал дьякон, и в его голосе было не удивление, а странное понимание, будто они все вдруг осознали одну и ту же истину: Ангелу не нужно было продолжения. Ему хватило услышанного.
Рахиль опустила глаза. Чашка в её руках дала тонкую трещину, но никто не заметил.
Тем временем Ангел шагал по узкой улице, где даже фонари горели тускло, словно боясь привлечь внимание. Воздух здесь был густым от запаха ржавого металла и старой древесины – это место не тронула безупречная рука Аластора. Оно дышало, как рана, которую не зашили.
Он не стал ждать новой случайной встречи. Он пришёл сам.
Дверь в квартиру Аллектора была не заперта – не из-за беспечности, а потому что тот не боялся воров. Что могли украсть у человека, у которого не осталось ничего, кроме мести?
Ангел вошёл без стука.
Комната была почти пуста: голый матрас в углу, стол, заваленный бумагами с пометками, карта города, испещрённая крестами. И сам Аллектор – стоявший у окна, уже повернувшийся, уже держащий стилет. Его глаза, холодные и острые, сузились, но рука не дрогнула.
– «Ты», – произнёс он, и это не было вопросом.
Ангел не ответил на приветствие. Его голос, обычно тихий, теперь резал, как лезвие:
– «Неужели можно просто взять и оставить зло, ждать, пока оно закончится?»
Аллектор усмехнулся. Не добро, не зло – просто пустота.
– «Я не жду самоисчезновения зла. Я его высекаю».
– «Да», – Ангел сделал шаг вперёд, и свет от окна упал на его лицо. – «Но ты ограждаешься от него. Ты не понимаешь, с чем именно ведёшь борьбу».
– «Я понимаю лучше тебя», – Аллектор не отступил. Его стилет блеснул в полумраке. – «Я видел его лицо. Я чувствовал его дыхание. Оно пахнет ложью и трусостью».
– «Ты видел последствия. Но не корень».
– «Корень?» – Аллектор рассмеялся, резко, беззвучно. – «Корень – это люди. Они гнилые изнутри. И если вырезать заражённые части, останется хоть что-то здоровое».
Ангел смотрел на него, и в его взгляде было что-то невыносимое – не гнев, не осуждение, а знание.
– «Ты борешься с тенью, думая, что это дерево».
Аллектор сжал кулак.
– «Хватит метафор! Если у тебя есть ответ – скажи. Если нет – уходи. Я не нуждаюсь в проповедях».
Ангел не ушёл. Он подошёл ближе.
– «Слова тебе ничего не докажут», – сказал он тихо. – «Но, может быть, покажет время».
И прежде чем Аллектор успел отреагировать, Ангел положил руку ему на плечо.
Не грубо. Не с силой. Но и не спрашивая разрешения.
Мир рухнул.
Прошлое. Осада Иерусалима (586 г. до Р.Х.)
Жара. Воздух густой от дыма и вони разлагающихся тел. Стены города трещат под ударами таранов. На улицах – хаос: женщины с детьми бегут к храму, солдаты в ржавых доспехах пьют вино, смешанное с кровью.
Аллектор (оглядывается):
– Где мы?
Ангел (ведет его через толпу):
– Иерусалим. Последние дни перед падением.
Они проходят мимо капища Молоха, где жрецы бросают в огонь младенцев, шепча заклинания. Рядом пьяные воины склонились над распутницами, те смеются, обмазанные кровью жертв.
Аллектор (брезгливо):
– И это – те, кто «ограждаются от зла»? Выглядит знакомо…
Ангел (не отвечая, ведет его дальше):
– Они верят: Бог не оставит Свой город. Даже сейчас.
Они спускаются в темницу – сырую яму, где в цепях сидит юноша с выжженными на лбу словами: «Лжепророк».
Аллектор (указывает на него):
– А этот что?
Ангел:
– Иеремия. Он годами говорил им: «Сдайтесь – или умрете». Они предпочли ослепнуть.
Из темницы доносится хриплый голос пророка:
– «Вы говорите: "мир, мир" – но нет мира. Ваши жертвы – мерзость. Ваши молитвы – ложь…»
Наверху раздается грохот – рухнула стена. Крики. Топот.
Ангел берет Аллектора за плечо – и они переносятся на время вперед и на другое место. К воротам Вавилона.
– Бесконечная колонна пленных – старики, дети, женщины – связаны одной веревкой, как скот.
– На шеях у них деревянные ярма, на спинах – клеймо Новуходоносора.
– Вавилонские воины тыкают в них копьями, смеясь. Один ребенок падает – его топчут.
Аллектор (сжав зубы):
– И где же их «сила» теперь?
Ангел (тихо):
– Она – в тех, кто не сломался. Кто в рабстве пел: «Если я забуду тебя, Иерусалим…»
Один из пленных поднимает голову – его глаза горят не ненавистью, а скорбью. Он шепчет:
– «Господи, прости их… они не ведают…»
Аллектор отворачивается. Ему стыдно – но он не понимает почему.
Ангел (кладет руку ему на плечо):
– Видишь? Они думали: «Бог спасет нас, даже если мы топчем Его заповеди». Твой Аластор – такой же. Он верит, что цель оправдывает методы. Но конец – всегда здесь.
Он указывает на ребенка, рыдающего над трупом матери.
Аллектор (глухо):
– Хватит…
Мир сжался, как разорванная ткань, сшитая в единое целое. Аллектор ощутил под ногами твердый пол, холодный ветер на лице – они снова стояли в его квартире. Но что-то изменилось. Не во внешнем мире – в нем самом.
Он медленно разжал кулак.
Ангел не торопил. Он стоял у окна, его белые одежды едва колыхались в неподвижном воздухе.
– «Ты видел», – сказал он. Не вопрос. Констатация.
Аллектор не ответил. Он смотрел на свои руки, которые столько раз держали стилет, и вдруг осознал: они дрожат.
– «Они сломались», – прошептал он.
– «Они выбрали», – поправил Ангел. – «Как выбираешь ты сейчас».
Тишина. Где-то за окном проехала машина, её фара на мгновение осветила комнату, и в этом жёлтом свете лицо Аллектора выглядело древним, измождённым, словно он прожил не тридцать лет, а триста.
– «Ты хочешь, чтобы я поверил, что есть другой путь?» – спросил он наконец.
– «Я хочу, чтобы ты понял, что твой путь ведёт в тупик», – Ангел сделал шаг вперёд. – «Ты режешь ветви, но корень остаётся. Ты думаешь, что убийствами очистишь мир? Павел писал: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего» (Еф. 6:12). Ты сражаешься с тенями, Аллектор».
– «Зато эти тени осязаемы», – резко ответил тот. – «Я видел, как они умирают. Слышал, как хрипят. Это не абстракция».
– «А после? Мир стал чище? Или просто появились новые министры, новые палачи?»
Аллектор стиснул зубы.
– «Значит, по-твоему, надо молиться и ждать? Как Иов? «Господь дал, Господь взял»?» – его голос дрогнул на последних словах.
Ангел покачал головой.
– «Иов страдал, но не проклинал. И в конце Господь ответил ему из бури. Не утешением, а вопросом: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?» (Иов 38:4). Ты не Бог, Аллектор. Ты не можешь перекроить мир по своей мерке. Но ты можешь выбрать, на чьей стороне стоять».
– «На чьей?» – горько усмехнулся Аллектор. – «На стороне тех, кто шепчет «терпи»?»
– «На стороне тех, кто светит во тьме», – Ангел подошёл так близко, что Аллектор увидел в его глазах отражение – не себя, а чего-то большего. – «Давид писал: «Господь – свет мой и спасение моё: кого мне бояться?» (Пс. 26:1). Но свет не льётся с неба сам по себе. Его несут. Даже если кажется, что он гаснет».
Аллектор закрыл глаза. Внутри него шла война – старая ярость, выкованная годами боли, сталкивалась с чем-то новым. С тем, что он видел в прошлом. С теми, кто умирал, не проклиная.
– «Я не святой», – прошептал он.
– «Никто не свят, один лишь Бог. Но каждый может сделать шаг к нему».
Молчание. Долгое, тяжёлое.
Аллектор открыл глаза.
– «Что теперь?»
Ангел протянул руку.
– «Теперь мы идём».
В комнате, где сидели Рахиль, отец Адриан и дьякон, время словно застыло. Чашка в руках Рахиль так и не была допита, воск свечи стёк на подсвечник, но никто не двигался. Они ждали. Без слов, без надежды – просто ждали.
И тогда раздался стук.
Тихий, но чёткий, будто кто-то постучал не в дверь, а в саму тишину.
Дверь открылась.
Сначала вошёл Ангел. Его одежды, ещё минуту назад казавшиеся белыми, теперь отливали золотом, словно впитали свет где-то за пределами этой комнаты.
А за ним – Аллектор.
Он стоял, слегка сгорбившись, как человек, несущий неподъёмную ношу, но в его глазах уже не было той ледяной пустоты. Была усталость. Было понимание.
Рахиль медленно поднялась. Отец Адриан перекрестился. Дьякон замер, словно боясь спугнуть этот момент.
Никто не спросил, что произошло. Они поняли.
Ангел повернулся к Рахили.
– «Теперь ты можешь продолжать», – сказал он.
И она поняла: рассказ об Аласторе был нужен не только им. Он был нужен ему. Аллектору.
начала говорить.
Голос её звучал тихо, но в комнате, где теперь сидели все пятеро, эти слова казались громче, чем когда-либо.
Глава девятая. «Проект и душа».
Прошение об отчислении легло на стол ректора семинарии, как обвинительный акт. Наставник, отец Иннокентий, смотрел на Аластора сквозь толстые стекла очков, в его глазах читалось не столько осуждение, сколько глубокая усталость и что-то вроде предвидения.
– «Куда же ты, чадо?» – спросил он, и голос его был тише шелеста страниц в библиотечном зале.
Аластор стоял прямо, взгляд устремлен не на старого монаха, а куда-то за стены, в будущее, которое виделось ему четкой инженерной схемой, лишенной тумана богословских сомнений.
– «Туда, где нужны не слова, а дела. Где строят не храмы души, но крепости для душ.»
Он повернулся и вышел. Осенний ветер, резкий и влажный, встретил его на крыльце. Он вдохнул полной грудью, но в легких не было прежней тяжести от храмового ладана – лишь холодная, режущая ясность. Путь был выбран. Мост сожжен. Теперь предстояло строить.
Юридический факультет государственного университета встретил его не колокольным звоном, а гулким эхом коридоров, запахом типографской краски от свежих учебников и напряженной тишиной аудиторий, где царил культ буквы закона. Аластор погрузился в учебу с той же аскетичной, почти монашеской самоотдачей, с какой когда-то штудировал патристику. Каждый параграф, каждый кодекс был для него не сухой нормой, а кирпичом в фундаменте его грядущего Порядка. Он схватывал материал мгновенно, анализировал с ледяной точностью, его конспекты были образцом педантизма – ни лишней черты, ни невыверенной формулировки. Он был идеален. Слишком идеален. Высокий, светловолосый, всегда безупречно одетый, с лицом, словно высеченным из мрамора – он притягивал взгляды и отталкивал своей недоступностью. Сокурсники уважали его ум, но побаивались этой стальной целеустремленности и нечеловеческой собранности. Споры он вел редко, только когда неверная мысль грозила подточить логику системы, и тогда его аргументы, четкие и безжалостные, как лезвие гильотины, рубили сомнения в корень.
Его убежищем стала университетская библиотека – не просто хранилище книг, а святилище систематизированного знания. Полки, вздымающиеся к потолку, тяжелый воздух, пропитанный пылью веков и свежей бумагой, мерный скрип перьев и шелест страниц – здесь он чувствовал себя своим. Здесь, в тишине читального зала, затерянный среди фолиантов по теории государства и истории права, он и встретил Рахиль.
Он заметил ее не сразу. Она сидела у высокого готического окна, заваленного стопками книг. Вечернее солнце, пробиваясь сквозь свинцовые переплеты, клало золотой квадрат на стол и касалось ее каштановых волос, собранных в небрежный узел, из которого выбивались мягкие пряди. Она читала, слегка наклонив голову, и в профиле ее было что-то… знакомое. Не черты лица – нет, та девушка была другой. Но тишина, исходившая от нее. Та же сосредоточенная внутренняя жизнь, то же ощущение завершенности в самой себе. Сердце Аластора сжалось не болью, а внезапным, резким уколом памяти. «Призрак?» – мелькнуло с ледяной иронией.
Он подошел к стеллажу с комментариями к Конституции, его рука автоматически потянулась к нужному тому. И в этот момент она подняла глаза. Не удивленные, не вопрошающие – спокойные, глубокие, как лесное озеро в безветрие. В них читалась мудрость, не по годам зрелая.
– Вы ищете Степанова? – ее голос был тихим, но отчетливым, без суеты. – Третий том вчера взяли. Но у меня есть, если срочно. – Она слегка подвинула стопку книг, обнажив толстый синий том.
Аластор кивнул, машинально:
– Благодарю. Я подожду.
– Не стоит. Я как раз закончила. – Она протянула книгу. Их пальцы едва коснулись. – Вы… новый? На юрфаке? Кажется, не видела вас на лекциях Ушакова.
– Перевелся. Семинария, – ответил он чуть резче, чем планировал, и тут же пожалел. Зачем объяснения?
Но в ее глазах не промелькнуло ни насмешки, ни снисходительного любопытства, лишь легкая тень понимания, будто она уловила не слова, а нечто большее – ту тяжесть, что он нес в себе.
– Интересный переход, – сказала она просто. – От богословия к праву. Две системы, пытающиеся упорядочить хаос. – Она встала, собирая свои книги. – Меня зовут Рахиль.
– Аластор.
Она улыбнулась, и в уголках ее глаз собрались лучики. «Солнечные зайчики», – абсурдно подумал он.
– Значит, увидимся, Аластор. Надеюсь, Степанов поможет упорядочить ваш хаос.
Она ушла, оставив после себя легкий шлейф запаха – не духов, а чего-то чистого, вроде свежего хлеба и чайных трав. И ощущение той самой тишины, которую он когда-то видел в храме.
Рахиль стала тихим, но неотъемлемым элементом его студенческой вселенной. Она не лезла в душу, не задавала лишних вопросов, но была вездесущей в своей ненавязчивости. На лекциях она сидела обычно на последних рядах, внимательно слушая, ее конспекты были не такими безупречными, как у Аластора, но полными метких пометок на полях. В библиотеке их пути часто пересекались у одних и тех же стеллажей – по истории политических учений, философии права, социальной теории. Иногда они обменивались краткими репликами о прочитанном. Ее замечания были лаконичны и точны, как скальпель, вскрывающий суть проблемы. Она видела слабые места в аргументации, улавливала скрытые предпосылки, чувствовала человеческое измерение за сухими правовыми конструкциями, о котором Аластор часто забывал в погоне за системностью.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.