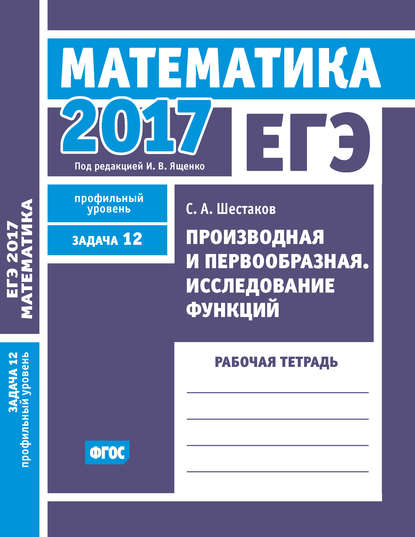Функциональная грамотность: сквозь века, сословия и стереотипы
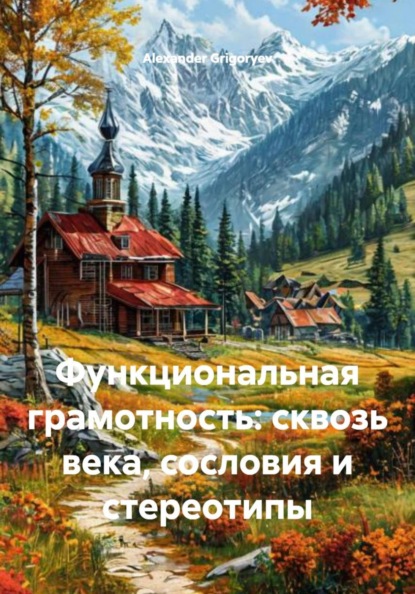
- -
- 100%
- +

Предисловие
Настоящая монография представляет собой исследование, посвященное пересмотру понятия грамотности в долгосрочной исторической перспективе. Ее отправной точкой является констатация устойчивого методологического парадокса в историографии и общественном сознании: оценка когнитивных и коммуникативных способностей людей прошлого через призму критериев, сформированных в условиях доминирования алфавитной письменности и массового школьного образования XIX–XXI веков. Такой подход, восходящий к эпохе Просвещения и окончательно закрепленный позитивистской наукой XIX столетия, привел к формированию нарратива о преимущественно «неграмотном» прошлом, где ключевой социальной проблемой выступало отсутствие у большинства населения базовых навыков чтения и письма. В рамках этого нарратива крестьянин, ремесленник, воин доиндустриальной эпохи часто предстают как объекты, лишенные сложных систем знания, что в свою очередь служило основанием для их характеристики как социальных групп с ограниченными интеллектуальными возможностями.
Основная цель данной работы заключается в деконструкции данного нарратива и предложении альтернативной аналитической модели. В качестве центральной категории выдвигается концепт **функциональной грамотности**. Под функциональной грамотностью понимается способность индивида или социальной группы к эффективной навигации, обработке, генерации и трансляции информации в рамках тех семиотических систем и кодов, которые являются структурно необходимыми для выполнения ключевых социально-экономических функций, обеспечения выживания и поддержания культурной преемственности в конкретном историческом и экологическом контексте. Таким образом, фокус смещается с дихотомии «грамотен/неграмотен» в узком, буквалистском смысле на анализ спектра компетенций, обеспечивавших функциональную адекватность индивида его среде. Эти компетенции могли включать, но не ограничивались, навыками алфавитного письма; они охватывали умение «считывать» природные циклы и свойства материалов, оперировать сложными системами устного счета и мнемоническими техниками, интерпретировать визуальные и символические коды (от геральдики и иконографии до орнаментики и знаков собственности), владеть специализированными риторическими и ритуальными практиками, а также использовать неалфавитные системы фиксации данных (узелковые, бирочные, зарубочные).
Теоретической основой исследования служит синтез подходов из нескольких дисциплинарных областей. Критика примата письменной культуры восходит к работам Джека Гуди, в частности к его анализу последствий использования письменности (Goody, 1977, 1986). Важное значение имеют исследования устных культур и технологий памяти, проведенные Уолтером Онгом (Ong, 1982) и в рамках школы «орality-literacy studies». Антропологические труды Клода Леви-Стросса (Lévi-Strauss, 1962) о «науке конкретного» и классификационных системах обеспечили методологическую базу для анализа неевропейских форм знания. В области социальной истории и истории знания работы Памелы Смит (Smith, 2004, 2022) о воплощенном знании ремесленников, Дэвида Тернбулла (Turnbull, 2000) о практиках пространственной организации и Мэри Каррутерс (Carruthers, 1990, 2008) о мнемонике в средневековой культуре позволили реконструировать альтернативные эпистемологии. Для анализа долгосрочного сосуществования различных медиальных систем ключевыми стали выводы Михаэля Клатта о переходе от памяти к письменному документу (Clanchy, 2012). Современные исследования в области цифровых гуманитарных наук, включая работы по историческим сетям и инфраструктурам коммуникации (например, Preiser-Kapeller, 2023; в области изучения средневековых торговых путей и административных сетей), предоставляют инструментарий для макроанализа информационных потоков в доиндустриальных обществах.
Хронологические рамки исследования охватывают период с эпохи становления производящего хозяйства (неолит) до начала XX века, что позволяет проследить как формирование, так и трансформацию различных режимов функциональной грамотности в условиях перехода от аграрных обществ к индустриальным. Географический фокус, при сохранении компаративистской перспективы, сосредоточен на Европе, в частности на Западной и Центральной Европе в средневековый и ранненововременный периоды, и на Российской империи в XIX – начале XX века. Такой выбор обусловлен как репрезентативностью данных, так и возможностью детально проследить конфликт между традиционными системами знания и проектом модернизационной грамотности на примере российского крестьянства, которое стало объектом интенсивного изучения и одновременно конструирования стереотипов в указанный период.
Структурно монография состоит из четырех взаимосвязанных частей. Первая часть посвящена разработке концептуального аппарата и критике классических теорий грамотности. Вторая часть предлагает панорамный анализ функциональных грамотностей, организованный по принципу социальных страт (крестьянство, военно-аристократическая элита, духовенство, бюрократия, купечество) и типов носителей информации (устные, вещественные, визуальные, письменные). Третья часть концентрируется на историческом переломе XIX–XX веков, исследуя, как внедрение массовой школьной грамотности и стандартизированных бюрократических практик деквалифицировало и маргинализировало традиционные формы знания, что на примере российской деревни привело к социальному и когнитивному конфликту. Четвертая часть анализирует дискурсивные механизмы, благодаря которым функциональные грамотности прошлого были определены как «неграмотность», и проводит параллели с современными формами цифрового и медийного разрыва, исследуемыми в работах таких авторов, как ван Дейк (van Dijk, 2020) и Харгрейвс (Hargreaves, 2023).
Эмпирическую базу исследования составляют разнообразные источники. Археологические данные, включая анализ орудий труда и систем межевания, позволяют реконструировать практические навыки. Этнографические коллекции и полевые записи XIX–XX веков, несмотря на свою идеологическую нагруженность, содержат ценную информацию о ремесленных техниках, агрономическом календаре и устных практиках. Корпус фольклорных текстов анализируется как система хранения и трансляции нормативного и прикладного знания. Хозяйственные документы – приходно-расходные книги, судовые журналы, счетные бирки (tally sticks), образцы узлового письма кипу – рассматриваются как материальные свидетельства неалфавитных систем учета. Законодательные акты, статистические отчеты, материалы переписей и публицистика используются для анализа дискурса о грамотности и процесса навязывания новых эпистемологических стандартов.
Настоящая монография не ставит задачу реабилитировать прошлое в романтическом ключе или отрицать преобразующий эффект письменности и формального образования. Ее задача заключается в ином: продемонстрировать, что общества прошлого были структурированы сложными, внутренне непротиворечивыми и высокоэффективными системами знания и коммуникации, адекватными стоявшим перед ними вызовам. Игнорирование этих систем, их определение через понятие отсутствия («неграмотность»), является следствием специфического исторического момента – триумфа проекта Просвещения и модерна. Понимание функциональной грамотности как множественного и контекстуального феномена позволяет не только скорректировать историческую картину, но и выработать более рефлексивный подход к собственным эпистемологическим предпосылкам и к возникающим в современную эпоху новым формам функциональной грамотности и, соответственно, нового функционального невежества.
Введение: Зачем нужна история функциональной грамотности?
§ 1.1. Тупик бинарного подхода: «умеет читать/писать» против «не умеет»
Анализ исторических процессов, связанных с распространением и использованием знаковых систем, долгое время опирался на методологически упрощенную, бинарную дихотомию. В рамках этой дихотомии население любой эпохи делилось на две взаимоисключающие категории: лиц, владеющих навыками алфавитного чтения и письма («грамотных»), и лиц, лишенных этих навыков («неграмотных»). Подобный подход, сформировавшийся как инструмент административного учета в ходе модернизационных процессов XIX века и впоследствии канонизированный позитивистской историографией и социологией, привел исследовательскую мысль в концептуальный тупик. Его основная методологическая слабость заключается в априорном отождествлении всего спектра когнитивных и коммуникативных компетенций человека с единственной, исторически конкретной технологией – алфавитной письменностью на национальном языке.
Бинарный подход имплицитно выстраивает иерархическую шкалу ценности знания, в вершине которой находится абстрактное, деконтекстуализированное письменное знание, а в основании – все прочие формы передачи информации. Как отмечает Харви Грейф в контексте анализа институциональных изменений, подобные упрощенные категории, будучи взяты на вооружение государством для статистики и управления, начинают обратно влиять на социальную реальность, формируя ее восприятие (Greif, 2006). В результате сложная, многомерная картина коммуникативных практик прошлого редуцируется до вопроса о процентном соотношении «грамотных» в той или иной социальной страте, регионе или историческом периоде. Это приводит к возникновению двух фундаментальных искажений.
Во-первых, происходит **семиотическое обеднение исторического анализа**. Из поля зрения исследователей выпадают целые пласты коммуникативных систем, которые выполняли функции, аналогичные функциям письменности, в своих социокультурных контекстах. К ним относятся, например, мнемотехнические системы на основе устной традиции, детально изученные в работах по устной поэтике (Foley, 2002) и средневековой мнемонике (Carruthers, 1990). В их число входят также неалфавитные системы фиксации количественных данных и обязательств, такие как узелковое письмо кипу в Андах (Urton, 2003; Hyland, 2014), счетные бирки (tally sticks), бывшие в официальном употреблении в английском казначействе вплоть до 1826 года (Baxter, 2021), или сложные системы межевых знаков и маркеров собственности в доиндустриальных аграрных обществах Европы. Игнорирование этих систем создает ложное впечатление о тотальном дефиците средств для фиксации, хранения и передачи сложной информации в обществах, где уровень алфавитной грамотности был низок по современным меркам.
Во-вторых, бинарный подход порождает **ошибочную телеологическую перспективу**, в которой вся история коммуникации предстает как однонаправленное движение от «неграмотности» к «грамотности», от устной культуры к письменной, а в конечном итоге – к современному «информационному обществу». Эта нарративная модель, восходящая к теоретическим построениям Гарольда Инниса (Innis, 1950, 1951) и Маршалла Маклюэна (McLuhan, 1962), в своем упрощенном виде трактует исторический процесс как прогрессивное замещение «примитивных» медиа более «совершенными». Однако современные исследования в области медиаархеологии (например, работы Зигфрида Цилински, Zielinski, 2006) и истории информации (сводный труд «The Information: A History, a Theory, a a Flood» Гликера, Gleick, 2011) убедительно демонстрируют нелинейный, гетерогенный и часто цикличный характер эволюции медиасистем. Различные формы грамотности не столько последовательно сменяли друг друга, сколько сосуществовали, конкурировали и взаимодействовали в рамках сложных медиальных экосистем. Так, работа Марины Фусман о новгородских берестяных грамотах показывает одновременное функционирование устных поручений, простейших цифровых записей и развернутых литературных текстов в средневековом городе (Fusman, 2023).
Более того, бинарная оппозиция оказывается неадекватной даже для анализа обществ с широким распространением письменности. Категория «грамотный» крайне неоднородна. Она может включать как человека, способного лишь поставить подпись или прочесть короткий знакомый текст, так и индивида, свободно оперирующего несколькими письменными языками, включая сакральные или ученые (латынь, церковнославянский, арабский, классический китайский). Работы по истории книги и чтения, такие как исследования Роджера Шартье (Chartier, 1995) и Роберта Дарнтона (Darnton, 2009), подчеркивают, что сам характер чтения, цели и способы взаимодействия с письменным текстом радикально менялись в разные эпохи. Простое дихотомическое деление не позволяет уловить эти качественные различия внутри условно «грамотной» группы.
Таким образом, бинарный подход «умеет читать/писать против не умеет» не только затемняет многообразие исторических практик работы с информацией, но и навязывает современным исследователям анахроничную и идеологически нагруженную оптику. Он препятствует пониманию того, как доиндустриальные и раннеиндустриальные общества решали задачи управления, трансляции знаний, заключения соглашений и социальной координации в отсутствие всеобщей алфавитной грамотности. Для преодоления этого тупика необходим отказ от редукционистской дихотомии и переход к более емкому и гибкому концепту – **функциональной грамотности**, который позволит анализировать коммуникативные компетенции в их конкретно-исторической функциональности и в связи с теми социальными, экономическими и технологическими системами, частью которых они являлись.
§ 1.2. Функциональная грамотность как антропологическая и историческая категория
Концепт функциональной грамотности, предлагаемый в качестве альтернативы бинарной модели, представляет собой аналитический инструмент, разработанный на стыке исторической антропологии, социолингвистики и истории знания. Его целью является преодоление анахронизма, присущего оценке прошлого через призму современных, узкоспециализированных навыков, путем смещения акцента на изучение **компетенций, обеспечивавших эффективное функционирование индивида в рамках конкретной социально-экономической и культурной системы**. В этом качестве функциональная грамотность выступает не как универсальная константа, а как исторически изменчивая и контекстуально обусловленная категория, содержание которой варьируется в зависимости от технологического базиса, социальной структуры и доминирующих коммуникативных режимов эпохи.
С антропологической точки зрения, данный подход наследует традиции исследования «науки конкретного» (la science du concret), описанной Клодом Леви-Стросом (Lévi-Strauss, 1962) как сложная классификационная и операционная система, основанная на глубоком, детализированном знании природной среды и её ресурсов. Это знание, будучи систематическим и передаваемым, не требовало алфавитной фиксации для своего функционирования. Близкую концептуальную рамку предлагают исследования «воплощённого знания» (embodied knowledge) в истории науки и техники, например, работы Памелы Смит о ремесленной эпистемологии раннего Нового времени (Smith, 2004, 2022), где подчёркивается невербальная, основанная на опыте и мускульной памяти составляющая профессионального мастерства. Таким образом, функциональная грамотность может проявляться в телесной сноровке, в способности визуально или тактильно оценивать свойства материала, в умении декодировать комплексные сигналы окружающей среды – компетенциях, которые не редуцируются к оперированию письменными текстами.
В исторической перспективе понятие функциональной грамотности позволяет реконструировать **множественные и параллельные «ландшафты грамотности»**, сосуществовавшие в пределах одного общества. Данный термин, вслед за работами историков письменности (например, концепция «literacy landscapes» у Дэниела Уолперта, Walpert, 2023), обозначает совокупность семиотических систем, доступных и востребованных в определённом сообществе. В средневековом городе, как показывают исследования по истории новгородских берестяных грамот (Янин, Зализняк, Гиппиус, 2021), такой ландшафт включал в себя церковнославянскую книжность, бытовую письменность на древненовгородском диалекте, систему княжеских и вечевых символов, цеховые знаки собственности, а также развитые устные практики судопроизводства и торговых переговоров. Аналогично, в аграрной общине функциональная грамотность могла опираться на знание локального агроэкологического календаря, системы мер и весов, технологии ремесленного производства, норм обычного права и устных генеалогий, что подробно документируется в этнографических исследованиях русского крестьянства конца XIX века (например, в материалах Этнографического бюро В. Н. Тенишева).
Ключевым методологическим следствием принятия данной категории является необходимость **функционального анализа конкретных практик**. Вопрос ставится не «был ли человек грамотен?», а «какими кодами он должен был владеть для успешной деятельности в своей социальной роли?». Для крестьянина такой набор кодов включал навыки интерпретации погодных примет, оценки качества почвы, лечения скота с помощью эмпирической ветеринарии, проведения землемерных работ с помощью простейших инструментов и традиционных единиц измерения (например, «выть», «обжа»), а также участия в коллективных решениях сельского схода, регулировавшегося устным обычным правом. Для воина-дружинника или рыцаря функциональная грамотность заключалась в умении «читать» геральдические знаки на поле боя, соблюдать сложный этикет вассальной верности, управлять ленными владениями через систему доверенных лиц (приказчиков) и понимать базовые принципы военной тактики и фортификации, которые до определённого периода передавались преимущественно в устной и наглядной форме.
Важным аспектом концепта является его **релятивность и стратифицированность**. Различные социальные группы в одном и том же хронологическом срезе обладали разными, но внутренне целостными наборами функциональных грамотностей. Сравнительный анализ компетенций крестьянина, монаха-писца и купца демонстрирует не их абсолютное превосходство или отставание друг от друга, а специализацию в различных семиотических средах. Эта стратификация часто носила неиерархический, а скорее параллельный характер, что объясняет устойчивость обществ, где алфавитная грамотность была элитарной монополией. Современные исследования информационных сетей в доиндустриальных обществах, например, анализ коммуникационных потоков в Византийской империи (Preiser-Kapeller, 2023), подтверждают, что эффективное управление и экономический обмен могли осуществляться через сочетание ограниченной письменной корреспонденции в центре и устойчивых устных, ритуализированных практик на периферии.
Таким образом, концептуализация функциональной грамотности как антропологической и исторической категории служит двум основным целям. Во-первых, она позволяет децентрализовать письменность как единственный критерий интеллектуального развития и коммуникативной компетентности в историческом анализе. Во-вторых, она предоставляет исследователям инструментарий для систематического описания и сравнения разнообразных, часто невербальных, способов организации, хранения и передачи знания, которые составляли основу функционирования обществ прошлого. Это создаёт основу для более адекватной и неосуждающей реконструкции когнитивного мира исторических акторов, свободной от телеологического предубеждения о неизбежном триумфе одной формы грамотности над всеми другими.
§ 1.3. Основной тезис и структура монографии
Основной тезис настоящей монографии заключается в следующем: традиционная историография, опирающаяся на бинарную оппозицию «грамотности» и «неграмотности», основанную исключительно на владении алфавитным письмом, формирует искажённое и редукционистское представление о когнитивных и коммуникативных способностях доиндустриальных и раннеиндустриальных обществ. Эта модель не только игнорирует сложные системы неалфавитных и невербальных практик работы с информацией, но и служит инструментом «символического насилия» (Бурдьё, 1977), посредством которого доминирующие группы (религиозные, бюрократические, интеллектуальные) навязывают собственную эпистемологию в качестве универсального стандарта, тем самым маргинализуя и дискредитируя альтернативные формы знания. В качестве альтернативы данное исследование утверждает, что человеческие общества на всех этапах своей истории характеризовались развитой и эффективной **функциональной грамотностью**, под которой понимается совокупность компетенций, позволявших индивидам и группам успешно кодировать, декодировать, передавать и применять информацию, используя те семиотические системы, которые были адекватны технологическим, экономическим и социальным вызовам их конкретной среды. Исторический процесс, таким образом, следует понимать не как линейный прогресс от «неграмотности» к «грамотности», а как последовательность сменяющих друг друга и конфликтующих между собой «режимов функциональной грамотности», каждый из которых представляет собой сложный ансамбль устных, вещественных, визуальных и письменных практик.
Для разработки и доказательства данного тезиса монография структурирована в четыре взаимосвязанные части, последовательно раскрывающие концептуальные основания, эмпирическую панораму, анализ исторического перелома и механизмы формирования предрассудка.
Часть I. Концепт: Анатомия функциональной грамотности посвящена теоретико-методологическому обоснованию исследования.
В главе 1 осуществляется критика бинарного подхода и определяется ключевое понятие функциональной грамотности через призму работ по антропологии знания (Леви-Строс, 1962; Ingold, 2000), истории техники (Smith, 2004) и медиалогии (Gitelman, 2006). В
главе 2 анализируется социальное измерение функциональной грамотности: рассматривается её роль как формы культурного капитала (Бурдьё, 1986) и исследуются механизмы «эпистемического насилия», которые приводят к доминированию одних систем знания над другими, с опорой на современные исследования социологии науки (например, работу Стивена Шейпина о научной революции, Shapin, 1996, и её рецепции).
Часть II. Панорама: Ландшафты грамотности в истории (IX–XVIII вв.) представляет собой сравнительно-исторический анализ различных проявлений функциональной грамотности в доиндустриальную эпоху.
Глава 3 фокусируется на «неписьменных вселенных», реконструируя агротехнические, ремесленные и учётные компетенции крестьянства на материале европейских и российских источников, с привлечением данных археологии и этнографии (работы по истории сельского хозяйства, такие как исследования Виктора Ключарёва о северорусских общинах, 2022).
Глава 4 анализирует грамотности статуса и власти: воинскую (геральдика, военный этикет), духовную (сакральные языки, экзегеза) и суверенную (ритуалы власти, невербальная коммуникация монарха).
Глава 5 рассматривает городские и маргинальные формы, включая купеческую грамотность (системы мер, учёта, межъязыкового посредничества) и перформативные практики скоморохов и шутов.
Часть III. Перелом: Великое размежевание грамотностей (XIX – начало XX вв.) исследует кризис традиционных систем функциональной грамотности под воздействием модернизации.
Глава 6 рассматривает проект всеобщего школьного образования и стандартизации национального языка как целенаправленную политику по созданию новой, унифицированной грамотности, необходимой для функционирования индустриального общества и национального государства, с опорой на работы Джеймса Скотта о государственных проектах упрощения (Scott, 1998) и историков образования (например, Andy Green, 2013).
Глава 7 представляет собой углублённое кейс-стади на материале русского крестьянства. В первом её разделе проводится детальная реконструкция системы традиционной функциональной грамотности (агроэкологической, правовой, ремесленной, коммуникативной). Во втором – анализируется дискурс интеллигенции, чиновничества и ранних этнографов, конструировавший образ «тёмного», неграмотного крестьянина (на материале публицистики, отчётов земств и переписей). В третьем разделе исследуется социальный и когнитивный конфликт, вызванный столкновением этой системы с требованиями письменного права, рыночной экономики и политической мобилизации.
Часть IV. Механизмы: Как рождаются и умирают предрассудки о неграмотности посвящена анализу долгосрочных последствий этого размежевания.
Глава 8 исследует генезис и воспроизводство стереотипа о неграмотности прошлого, прослеживая его истоки в сакрализации письменного текста в религиозных традициях, его закрепление в административной статистике XIX века и его теоретическое обоснование в эволюционистских концепциях истории.
Глава 9 проводит параллели с современностью, анализируя профессиональные жаргоны как новые сословные грамотности (с опорой на социолингвистику, например, работы Джона Свилза, Swales, 1990) и цифровой разрыв как новую форму функционального неравенства, исследуемую в работах по digital divide (van Dijk, 2020; Ragnedda, 2023).