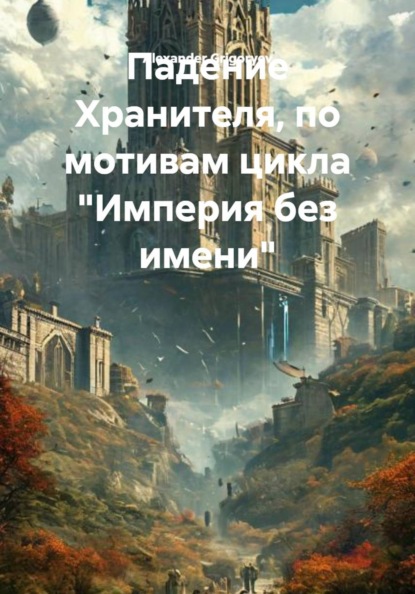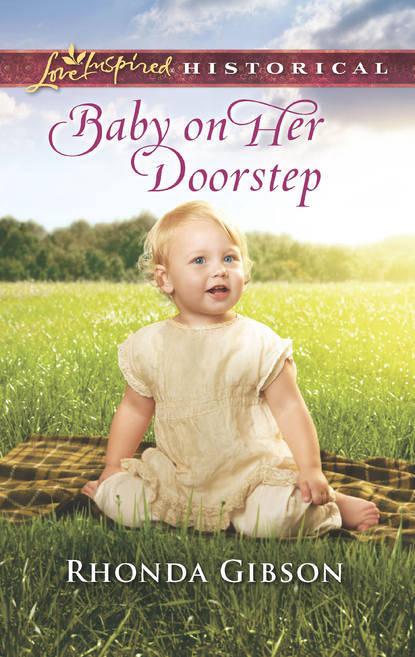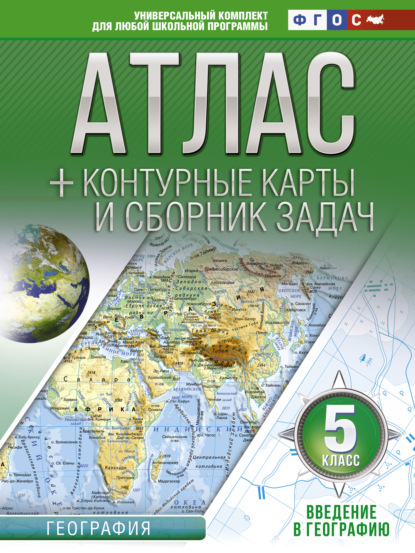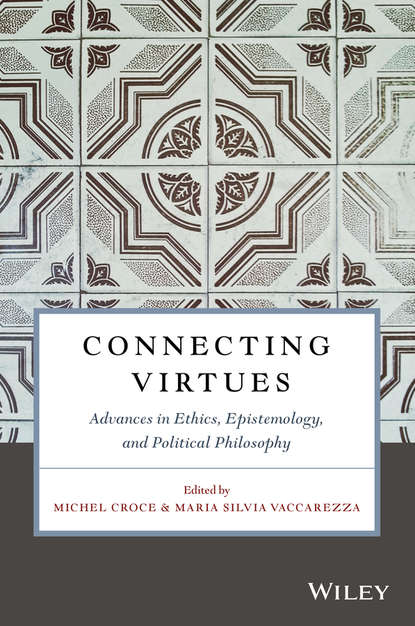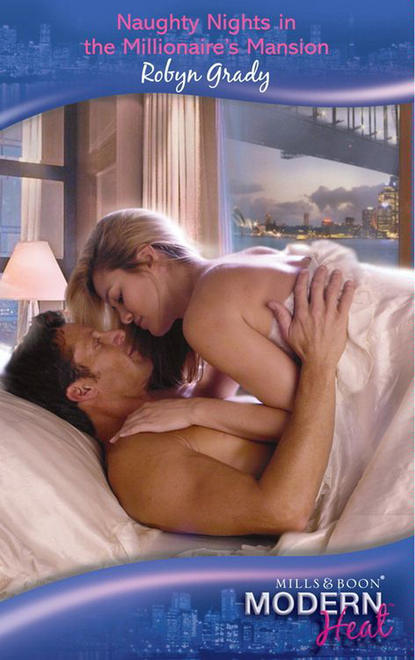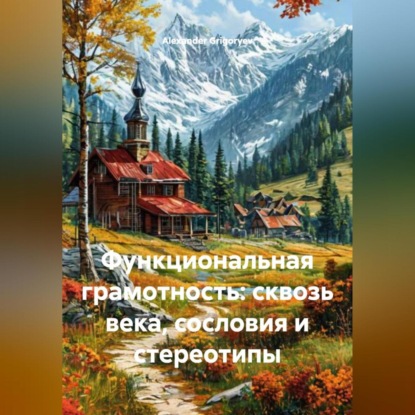Империя людей, живые маяки 3.1

Издательство:
SelfPub
Серия:
Живые МаякиЖанры:
социальная фантастикаКниги этой серии:
cinematic wide shot, a weathered man in simple linen shirt and leather apron stands on a mountain ridge at dawn, gazing at endless stone peaks shrouded in mist, a small wooden house with smoking chimney visible far below in the valley, ancient stone path winding through rocks, a single white rose made of forged iron blooms on the rooftop, soft golden light breaking through clouds, hyperrealistic, muted earth tones with accents of warm firelight, profound silence and solitude, style of Zdzisław Beksiński and Thomas Kinkade fusion, 8k detailed