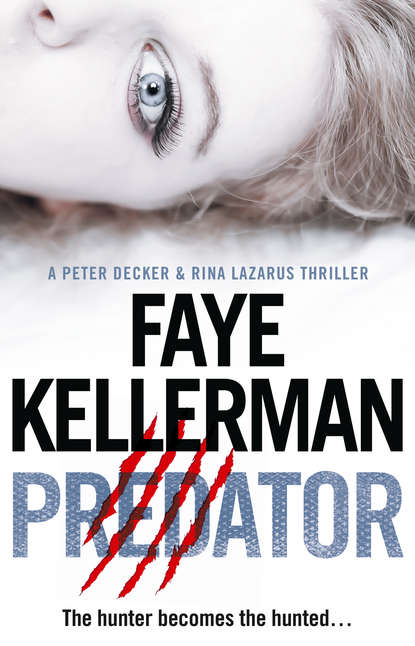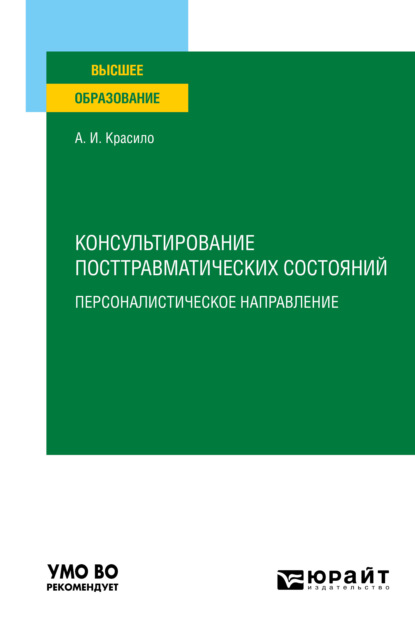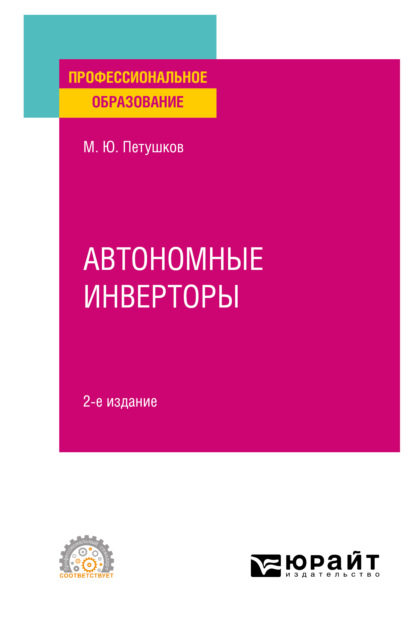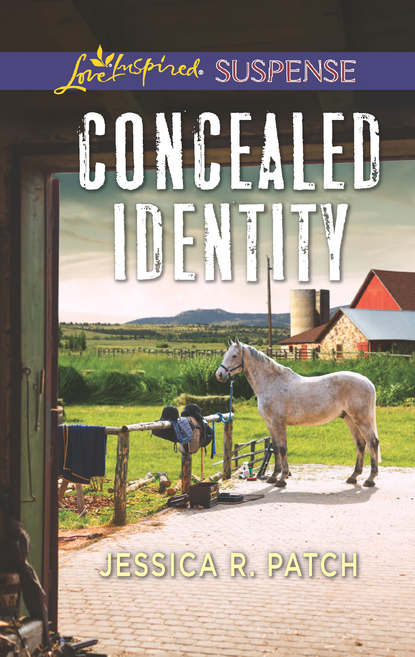Империя людей, живые маяки 4

- -
- 100%
- +
– Что же тогда здесь? – спросила она, и в её голосе прозвучала неподдельная усталость. – Что ты строишь? Рай для одного человека?
Он подумал о тропе, которую протоптало время. О Васином «нет». О Аэлите, которая просто пришла, потому что «больше не могла врать себе». О тёплом камне в доме, который был теперь не реликвией, а соседом по бытию.
– Не рай, – ответил он. – Дом. Просто дом. Место, где можно быть, а не казаться. Где ценность не в том, что ты можешь сделать для галактики, а в том, что ты можешь починить свою крышу. Или научить другого человека быть нужным. Или просто выпить чаю в тишине.
Лилия молча допила свой чай. Поставила кружку на стол с тихим, чётким стуком.
– Я не могу это принять, – сказала она. – Для меня это звучит как капитуляция.
– Для меня это звучит как жизнь, – сказал он.
Они сидели в тишине, которую нарушал только шелест листьев и отдалённое блеяние коз где-то на склоне. Два человека из одного прошлого, оказавшиеся в разных, непересекающихся реальностях.
Наконец, она встала.
– Я улетаю. Ты… оставайся со своей скалой, Михаил.
Он проводил её до края поляны. Она не обернулась. Её прямая, негнущаяся спина медленно удалялась по тропинке к серебристому кораблю.
Михаил вернулся к столу, взял её пустую кружку. На дне осталась тёмная влажная тень от чая. Он долго смотрел на этот след, этот единственный знак её пребывания здесь.
Потом взял свою кружку и пошёл мыть их обе в жестяном тазу. Вода была холодной. Руки знали движение. Внутри была не пустота, а то самое спокойное, каменное принятие.
Она искала мальчика. А нашла скалу. И, возможно, это было самое честное, что они могли дать друг другу после всего, что было: признать, что искать больше нечего.
Часть 5: Близость без имплантов
Она осталась на ночь. Не потому, что он попросил. Не потому, что где-то летали челноки, а на Жемчужине с наступлением темноты становилось по-настоящему темно и холодно. Она осталась, потому что не договорила. Потому что пустота в её глазах требовала заполнения, а скала, в которую он превратился, казалась единственной твёрдой вещью в рушащемся мире.
Михаил молча показал ей вторую комнату – маленькую, с узкой кроватью и печкой-голландкой. Комнату, которую он когда-то, в первые месяцы, называл «гостевой», хотя гостей не было. Он принёс дров, растопил печь, оставил на столе глиняный кувшин с водой. Действия были простыми, ритуальными, лишёнными намёка. Действия хозяина, а не любовника.
– Спасибо, – сказала Лилия, стоя посреди комнаты, всё ещё в своём безупречном костюме, словно ожидая, что стены раздвинутся, откроется портал, и она вернётся туда, откуда прилетела.
Он кивнул и уже собрался уходить, когда её голос остановил его у порога.
– Михаил.
Он обернулся.
– Я помню, – сказала она просто. Сказала так, будто это было паролем. Кодом доступа к той вселенной, где он был мальчиком, а она – девочкой, и между ними лежала не бездна опыта и потерь, а лишь тонкая, трепещущая плёнка страха и желания.
Он ничего не ответил. Закрыл за собой дверь.
Ночью он проснулся от звука. Не от шума – в доме было тихо. От перемены в тишине. Дверь в его комнату скрипнула. Лёгкий шаг по половицам. Холодный воздух с коридора, и сразу за ним – тепло чужого тела, скользящего под грубое шерстяное одеяло.
Он не пошевелился. Лежал на спине, глядя в потолок, угадывая её контур в кромешной тьме. Она прильнула к нему спиной, прижалась позвоночником к его боку. Дрожала. Не от холода.
– Я замерзла, – солгала она шёпотом.
Он знал, что в её комнате тепло. Печь ещё тлела. Но он молча приподнял одеяло, впустил её полностью, повернулся к ней. Их тела встретились в темноте, как два незнакомых континента, над которыми погасли все навигационные огни.
Сначала были только руки. Его ладони, шершавые и тяжёлые, коснулись её талии, скользнули по рёбрам, нащупали под тонкой тканью сорочки (откуда она её взяла?) острые лопатки. Её пальцы, всё ещё гладкие, с коротким аккуратным маникюром инженера, впились в его плечи, будто ища рычагов управления, кнопок, интерфейсов. Но под кожей был только мускул, кость, тёплая плоть.
Это было неудобно. Грубо. Тела не струились, не подстраивались друг под друга с помощью микрокоррекций нейроимплантов, смягчающих позу, усиливающих ощущения. Каждый сустав скрипел, каждый мускул был тугим и неподатливым. Дыхание сбивалось не в страстном ритме, а от простой нехватки воздуха, от близости, которая была физическим столкновением.
Он попытался поцеловать её. Их губы встретились неуклюже, стукнулись зубами. Раньше импланты синхронизировали движение, делали поцелуй идеальным дуэтом. Теперь это была борьба двух индивидуальностей, не желавших уступать. В её поцелуе была жадность, попытка высосать из него то «я», которое она помнила. В его ответе – осторожность, граничащая с онемением.
Она сбросила сорочку. Её кожа в темноте казалась фосфоресцирующей, чужеродной. Он касался её ладонями, и мозг отчаянно пытался сопоставить новые, сырые сигналы со старыми, отполированными технологией воспоминаниями. Раньше прикосновение к коже вызывало каскад ощущений, тщательно сбалансированных, усиленных, окрашенных эмоциональными модуляторами. Теперь он чувствовал только текстуру – гладкую, прохладную. Тепло. И лёгкую рябь мурашек под своими пальцами.
Было больно. Не метафорически. Физически. Когда он вошёл в неё, они оба вскрикнули – тихо, от удивления. Не было плавной адаптации, биологической синхронизации, которую обеспечивали нанороботы в жидкостях тела. Было сопротивление плоти плоти. Трение. Непривычная теснота. Боль, острая и честная, как удар.
Она закусила губу, её ногти впились ему в спину. Он замер, чувствуя, как всё его тело напряглось, сжалось в комок неловкости и стыда. Это было не слияние. Это было вторжение.
– Продолжай, – прошептала она сквозь зубы. И в её голосе была не страсть, а воля. Решимость доказать что-то. Себе. Ему. Призраку того мальчика.
Он попытался. Движения были угловатыми, резкими, лишёнными грации. Казалось, они не занимались любовью, а вместе выполняли сложную, незнакомую физическую работу, полную зацепов и неправильных углов. Он слышал её прерывистое дыхание, чувствовал, как дрожат её бёдра. От боли? От возбуждения? Он уже не различал.
И тогда она прошептала это снова. Уже не как пароль, а как мантру, заклинание, призванное воскресить прошлое.
– Я помню… Я помню, как это было. Ты помнишь? Ты же помнишь…
Он помнил. Но это были воспоминания о другом человеке. О том, чьи нервы были усилены, чьи гормоны управляемы, чьё удовольствие можно было откалибровать, как чувствительность прибора. Тот человек любил другую Лилию – ту, что была частью той же системы, его идеальным, опасным зеркалом.
А сейчас под ним лежала женщина, пытающаяся силой воли и памятью тела вызвать духа из камня. А над ней двигалось тело мужчины, которое было просто телом. Без надстройки. Без «улучшений». Оно устало. Оно скучало. Оно хотело не её, а покоя.
Он не ответил. Не мог. Слова, которые она ждала – «я тоже помню», «это как тогда», «ты всё та же» – застряли бы горькой ложью в глотке. Его молчание было громче любого стона.
Он кончил внезапно, почти без удовольствия, с чувством облегчения, что это закончилось. Просто физиологическая разрядка, глухой удар где-то внизу живота, а потом – пустота.
Он откатился на спину. Лежал, глядя в темноту, слушая её частое, неровное дыхание. Потом до него донесся новый звук. Тихий, сдавленный. Она плакала. Не рыдая. Беззвучно, просто тёплые капли падали на подушку рядом с его щекой.
Он не обнял её. Не стал утешать. Его рука лежала на одеяле, тяжёлая и чужая.
«Я помню», – снова прошептала она в темноту, но теперь это звучало как проклятие.
Он молчал. Потому что его «я», которое она помнила, было мертво. А то, что осталось – эта скала, это тело, умеющее только колоть дрова и чинить крыши – не умело любить по-старому. Оно могло только быть. И в этой близости оно было особенно грубым, особенно несостоятельным.
Он слышал, как её дыхание постепенно выравнивается. Плач стих. Она лежала неподвижно, отвернувшись к стене.
Утром, когда первый серый свет прокрался в окно, её место рядом с ним уже было пустым. Одеяло аккуратно заправлено. В доме пахло дымом от растопленной печи и… жареным хлебом. Он вышел на кухню.
Лилия стояла у печи, в его старой, слишком большой для неё рубахе. Она переворачивала ломтики хлеба на чугунной сковороде. Движения были точными, автоматическими. На столе уже стояли две кружки чая.
Они позавтракали молча. Когда она встала, чтобы умыться, он увидел на её шее синяк от его неловкого прикосновения. Отметину, которую не стереть.
Позже она надела свой безупречный костюм, снова став инопланетным зондом. У порога она остановилась.
– Я улетаю, – сказала она. Больше не было оценок, не было предложений. Просто констатация.
– Удачи, Лиля, – сказал он. И это была не формальность. Он искренне желал ей найти то, что она искала. Где-нибудь ещё.
Она кивнула, повернулась и пошла по тропинке. Не оглядываясь.
Михаил вернулся в спальню. Заправил кровать. На подушке, на её стороне, лежал скомканный платок. Он поднял его. На белой льняной ткани были едва заметные следы от помады и два тёмных пятна – от слёз.
Он вышел во двор, развёл костёр на старом пепелище. Бросил в огонь платок. Тонкая ткань вспыхнула на мгновение ярким жёлтым пламенем и превратилась в пепел.
Дым поднимался в холодное утреннее небо, тонкой серой нитью, растворяясь в воздухе. Последний след.
Близость без имплантов оказалась не возвращением к истокам, не очищением. Она была ампутацией. Болезненным отсечением ещё одного куска прошлого, который больше не мог прижиться к новому телу.
Он глубоко вдохнул запах дыма и пошёл проверять ульи. Работа ждала.
Часть 6: Уход Лилии
Утро после. Воздух в доме был другим. Не таким, как после ухода обычного гостя – тогда оставалось эхо разговоров, пустота на привычном месте, может, забытая вещь. Здесь оставалось эхо близости, которая не состоялась. Тяжёлое, густое молчание, в котором каждая пылинка, кружащая в луче света из окна, казалась кричащей.
Михаил проснулся от привычного холода – он всегда просыпался раньше, чтобы растопить печь. Но сегодня холод был внутри. Пространство рядом в кровати сохранило форму её тела, вмятину на подушке, слабый, чуждый запах – не её парфюма, а чего-то чистого, лабораторного, средства для очистки тканей нового поколения. Он лежал, глядя на серый потолок, чувствуя, как его тело, это неуклюжее скопление плоти и костей, помнит каждое неловкое движение, каждый болезненный толчок. Оно помнило стыд.
Он поднялся, надел штаны, вышел в основную комнату. Дом был пуст. Дверь в её комнату стояла распахнутой настежь. Кровать заправлена с педантичной, военной аккуратностью, подушка взбита и лежала строго по центру. Как будто здесь никто не спал. Как будто её визит был инспекцией.
На грубом деревянном столе, рядом с глиняным кувшином для воды, лежал белый квадратик. Не электронная пластина, не голопроектор. Настоящая бумага, плотная, с мелким тиснением по краю – дорогая, статусная. На ней был ровный, чёткий почерк. Почерк человека, который привык писать короткие, ёмкие отчёты.
Он не взял записку сразу. Сначала растопил печь, грубо, с силой вбрасывая поленья, словно хотел заглушить ими что-то. Поставил воду. Вышел во двор, умылся ледяной водой из бочки. Боль от холода на коже была проще, честнее той внутренней смуты.
Вернувшись, он налил себе чаю и только тогда подошёл к столу. Не сел. Просто взял записку. Бумага была холодной и шершавой под пальцами. Он прочёл. Не вслух. Просто пропустил слова через себя, как пропускал когда-то сквозь сознание поток данных.
Михаил.Я улетаю. Договорилась с местным перевозчиком – он заберёт меня с плато в полдень. Не нужно провожать.Я привезла сюда память. Не о нас – о возможности нас. О той точке в прошлом, где наши пути могли слиться в один. Я думала, эта память – как семя. Что если бросить её в эту землю, в тебя, оно прорастёт.Оно не прорастёт.Ты был прав. Мальчик, которого я помнила, мёртв. А то, что я пыталась оживить прошлой ночью… это было надругательством над трупом. Над твоим. Над моим. Над тем, во что мы могли бы превратиться.Спасибо, что позволил мне увидеть это. Увидеть, что всё кончено. Не в гневе, не в драме, не из-за войны или принципов.По-настоящему.Как закрытая книга. Как погасший маяк. Как этот твой камень – просто камень.Я возвращаюсь в мир, который ты сломал. И буду помогать Эдварду его собирать. Это моя работа. Моё призвание. Возможно, мое наказание.Не ищи. Не пиши. Не вспоминай.Л.Д.
Он перечитал. Потом ещё раз. Искал между строк боль, упрёк, хотя бы каплю сожаления. Находил только холодную, ясную констатацию. Инженерный отчёт о завершении проекта. Проекта под названием «Мы».
Рука, державшая бумагу, не дрожала. Внутри тоже была тишина. Не оглушающая, как в первые дни. А та самая, каменная. Та, о которой она написала.
Он положил записку обратно на стол. Выпил чай, уже остывший. Потом взял железную коробку со спичками и вышел на крыльцо.
Утро было ясным, морозным. Небо – пронзительно синим. Внизу, в долине, лежал туман, как молоко в чаше. Где-то далеко, за скалами, должен был приземлиться челнок местного перевозчика – ржавая, неуклюжая посудина, которую он иногда видел в небе.
Он присел на корточки у края крыльца, на том самом месте, где обычно рубил лучину для растопки. Достал спичку. Чиркнул. Яркое, живое пламя вспыхнуло на конце серной головки, зашипело, принялось жадно пожирать дерево.
Он поднёс огонь к нижнему углу записки.
Бумага сопротивлялась мгновение, потом почернела, свернулась, и по краю поползла оранжевая кайма. Пламя было алчным. Оно пожирало её слова одно за другим: «спасибо»… «увидеть»… «кончено»… «по-настоящему».
Жар щипал пальцы. Он не отодвинул руку, пока огонь не лизал уже самую кожу. Потом разжал пальцы. Чёрный, лёгкий пепел, удерживающий на мгновение форму листа, упал на мокрую от инея землю. Структура рухнула. Осталась лишь горстка серой пыли с красными, ещё тлеющими прожилками. Он растёр её ботинком. Вмёл в землю. Вмёл в грязь, в мёрзлую траву, в эту реальность, которая не терпела абстракций.
Он сжёг не копию. Он сжёг оригинал. Единственный экземпляр. Потому что копии были в её голове, в его памяти – их не сжечь. Но этот материальный след, этот последний, прямой контакт между её мыслью и его глазами – он мог уничтожить. Чтобы больше не было этого куска бумаги как доказательства, как реликвии, как якоря.
«По-настоящему».
Слово жглось на языке. Оно было верным. Ничего не осталось. Ни злобы, ни нежности. Осталась только правда, голая и неудобная, как эти камни под ногами.
Он выпрямился, глядя на то место, где исчез пепел. Потом поднял голову и увидел в небе далёкую серебристую точку. Она набирала высоту, разрезая синеву. Бесшумно. Элегантно. Уходя.
Он не махнул рукой. Не простился взглядом. Он просто наблюдал, как точка становится меньше, блестит на солнце последний раз и исчезает в дымке атмосферы. Сливается с белизной облаков. С небом.
Когда в небе не осталось ничего, кроме ветра и солнца, он повернулся и вошёл в дом. Затворил дверь. Не чтобы запереться. Просто потому, что в доме стало холодно.
Он подошёл к печи, бросил ещё одно полено. Сесть к столу, где лежала записка, он уже не мог. Взял топор и вышел во двор. К поленнице. Нашёл толстое, суковатое бревно, вкопал его в землю как плаху.
И начал рубить. Методично, с полной амплитудой, вкладывая в каждый удар всё: и остатки стыда, и горечь пустоты, и принятие этой правды. Топор впивался в древесину с тяжёлым, сочным звуком. Щепки разлетались в стороны, пахнувшие смолой и жизнью.
С каждым ударом что-то внутри затвердевало. Не каменело – просто занимало своё окончательное место. Он не хоронил прошлое. Он превращал его в топливо. В энергию для того, чтобы жить дальше. В этих поленьях, которые согреют его вечером, будет сожжено и это утро, и эта записка, и эта женщина, улетевшая навсегда.
Рубил он долго. Пока солнце не поднялось над скалами. Пока мышцы на спине и плечах не загудели сладкой, знакомой усталостью. Пока в голове не осталось ничего, кроме ритма ударов и белого пара дыхания на холодном воздухе.
Он остановился, опершись на топорище. Взглянул на аккуратную горку наколотых дров. На работу, сделанную своими руками. На реальность, которую можно пощупать.
Записка сгорела. Челнок улетел. Она вернулась в свой мир. Он остался в своём.
Всё было кончено. По-настоящему.
И в этой окончательности, странным образом, было начало чего-то нового. Не надежды. Не счастья. Просто очередного дня, в котором нужно было колоть дрова, топить печь и жить. Просто жить.
Он взвалил охапку поленьев на плечо и понёс в дом. Тяжёлых, пахнущих лесом. Настоящих.
Часть 7: Илектра прилетает
Прошло три дня. Три дня тишины, нарушаемой только ветром, стуком топора и однообразным жужжанием точильного камня, который Вася приводил в движение ножной педалью. Михаил почти оправился от визита Лилии – не эмоционально, а физически, как оправляются от гриппа: слабость осталась, но острая фаза миновала. Он снова мог сосредоточиться на щели в обрешётке, на вкусе дымного чая, на ритме дня.
И тогда прилетела она.
Если челнок Лилии был бесшумным хищником, то корабль, прорезавший небо над Жемчужиной в полдень третьего дня, был воплощением демонстративной роскоши. Длинный, стремительный, с зеркальной обшивкой, отражавшей облака, он с громовым рёвом двигателей пронёсся над долиной, сделал разворот на месте, заставляя сгибаться верхушки деревьев, и приземлился на той же площадке, подняв вихрь пыли и сухих листьев. Это было не прибытие. Это было вторжение.
Михаил вышел из кузницы, вытирая сажу о фартук. Вася перестал точить, прикрыв глаза от солнца ладонью. Они молча наблюдали, как от корабля отстреливается трап и по нему сходит фигура.
Она шла так, будто подиум был продолжением трапа. Высокая, в облегающем комбинезоне из переливчатой ткани, меняющей цвет от серебра к глубокому синему. Волосы цвета воронова крыла были убраны в сложную, но безупречно небрежную причёску, открывающую длинную шею и идеальные скулы. Её лицо было произведением искусства – не генной инженерии (такая роскошь была вне закона даже в старые времена), а тотальной, хирургически точной гармонией. Но главное были глаза. Холодные, зелёные, как два куска льда, в которых отражалось всё, но ничего не задерживалось.
Она дошла до середины поляны и остановилась, оценивающим взглядом окинув дом, сарай, Михаила.
– Нашёл-таки свою тихую гавань, Освободитель? – её голос был низким, бархатным, отточенным на тысячах переговоров и соблазнений. В нём не было ни капли искренности, только профессиональная, безупречная упаковка.
Михаил узнал её. Не лично – по слухам, по редким кадрам в новостях, которые он ещё иногда ловил на древнем радиоприёмнике. Илектра. Не фамилия. Бренд. Самая известная сводница, арт-дилер и теневой посредник для новой элиты. Та, кто продавала не товары, а доступ. Ощущения. Интимность знаменитостей. Она была живым каталогом запретных удовольствий и связей.
– Ялектра, – сказал он, не делая шага навстречу. – Заблудилась?
Она усмехнулась. Улыбка была безупречной и абсолютно пустой.
– О, нет. Маршрут был просчитан до метра. Я здесь по делам. К тебе. – Она сделала несколько лёгких шагов ближе, её ботинки на невероятно высоких каблуках легко находили опору среди камней. Она пахла озоном, холодным металлом и чем-то сладковато-пряным, дорогим. Этот запах резал чистый горный воздух, как нож.
– У меня с тобой дел нет, – отрезал Михаил и повернулся, чтобы уйти в кузницу.
– Миллионы, Михаил, – бросила она ему вслед, не повышая голоса. Слово повисло в воздухе, как отравленная конфета. – Миллионы кредитов. Или крипто-активов, или арт-объектов – в чём захочешь. Твой образ. Твоя легенда. Они стоят целое состояние. А сейчас, пока рынок нестабилен, пока все ищут новые символы, новые нарративы – они стоят особенно дорого.
Он обернулся. Она стояла, слегка склонив голову набок, изучая его, как скалу, в которой предполагает наличие алмазной жилы.
– Какой образ? – спросил он, и в его голосе прозвучало неподдельное удивление.
Она рассмеялась. Звук был красивым, отшлифованным и фальшивым, как стразы.
– Не скромничай. «Последний Романов, отказавшийся от короны». «Тот, кто уничтожил рабство на генетическом уровне». «Дикарь с Жемчужины». Это же чистый нарратив! Золотая жила! Мы можем раскрутить бренд. Линейку одежды «Отшельник». Аромат «Дикарь». Хочешь – голографический тур по местам силы с твоим цифровым двойником. Хочешь – эксклюзивные интервью, подкаст «У костра с Освободителем». Твоё лицо на обложках. Твоё молчание – как высшая форма красноречия. Мы продадим не тебя – миф о тебе.
Она говорила быстро, чётко, её слова были отточенными пулями, каждая – в цель потенциальной выгоды.
Михаил слушал, и внутри него поднималось не возмущение, а какая-то глубокая, почти биологическая усталость. Система умерла. Но её вирусы – жадность, тщеславие, жажда потребления – мутировали и нашли новые носители. Илектра была идеальным носителем.
– У меня нет к тебе доверия, – сказал он просто. – И нет интереса к твоим миллионам.
– Доверие – это тоже товар, – парировала она, не моргнув глазом. – Я могу его купить. Гарантиями. Контрактами. Предоплатой. Или… – Она сделала паузу, позволив взгляду медленно проплыть по его фигуре, задерживаясь на открытых, сильных руках, на линии плеч под простой тканой рубахой. – …Другими способами. Я не только агент. Я – гарант. И иногда я сама становлюсь частью продукта. Чтобы удостоверить его… подлинность.
В её словах не было намёка. Было прямое, циничное предложение. Ты – легенда. Секс со мной – это печать качества на твоём мифе. Доказательство, что ты всё ещё в игре. Что к тебе можно прикоснуться. За деньги.
Вася, всё это время молча наблюдавший с порога сарая, фыркнул и громко сплюнул. Илектра даже не повернула голову. Её внимание было полностью сфокусировано на Михаиле, как луч целеуказателя.
Михаил вздохнул. Этот вздох шёл из самых глубин, вынося на поверхность не гнев, а тяжёлую, каменную убеждённость.
– Уходи, Илектра.
– Ты не понял, – её голос потерял бархатистость, в нём зазвенела сталь. – Я не предлагаю. Я сообщаю о рыночной реальности. Если ты не монетизируешь свой образ, это сделает кто-то другой. Уже делает. На чёрном рынке полно поддельных «реликвий с Жемчужины» и фальшивых дневников «Михаила Романова». Я предлагаю контролировать повестку. Получить свою долю. Или… – она снова усмехнулась, – …или ты хочешь остаться святой иконой для этих упоротых экологов? – Она кивком головы указала на долину, на скромные домики вдалеке.
– Я хочу, чтобы ты убралась с моей земли, – сказал Михаил тихо, но так, что каждое слово было как удар молота по наковальне. – Сейчас.
Они замерли, смотря друг на друга. Она – воплощение холодного, расчётливого мира, который уже оправился от шока и снова начал торговать всем, даже святостью. Он – часть тишины и камня, которые этот мир никогда не поймёт.
Наконец, она пожала плечами. Идеальная, безразличная гримаса.
– Твоя потеря. Но предложение остаётся в силе. Когда надоест играть в простую жизнь, когда эти мозоли начнут болеть по-настоящему… ты знаешь, как меня найти. Всегда найдётся тот, кто хочет прикоснуться к легенде. Или просто сломать её.
Она развернулась и пошла обратно к кораблю, её каблуки чётко отбивали дробь по камням. Она не оглянулась ни разу.
Трап втянулся. Зеркальный корабль взревел двигателями, поднял вихрь, и через мгновение был уже в небе, растворяясь в синеве, оставляя после себя лишь запах озона да лёгкую дрожь в земле.
Михаил стоял, глядя в пустое небо. Потом перевёл взгляд на свои руки. На настоящие мозоли. На следы от искр и сажи. На трещину на костяшке пальца, которую он получил, неудачно ударив по зубилу.
Он был не легендой. Он был просто человеком, который колет дрова и чинит крыши. И эти мозоли не болели оттого, что были частью мифа. Они болели от работы. Настоящей работы.
Он повернулся и пошёл обратно в кузницу. К реальности. К наковальне, которая была тяжела, проста и честна. К железу, которое не лгало.
Вася снова запустил точильный камень. Жужжание заполнило пространство, сметая последние следы гладкого, ядовитого голоса Илектры.
Михаил взял молот. Он не был брендом. Он был инструментом. И этим он был ценен.
Часть 8: Проверка
Она вернулась на следующий день. Без роскошного корабля. На небольшом, быстром аэроцикле, который приземлился у края поляны так тихо, что его не услышали ни Михаил в кузнице, ни Вася в саду.