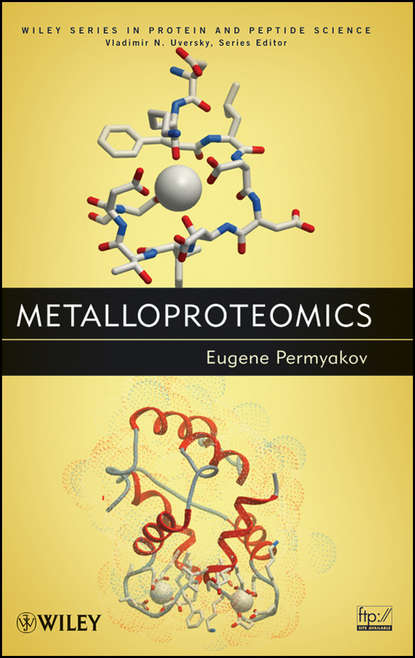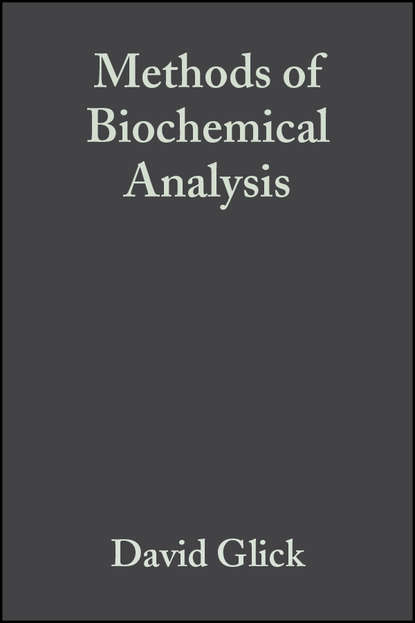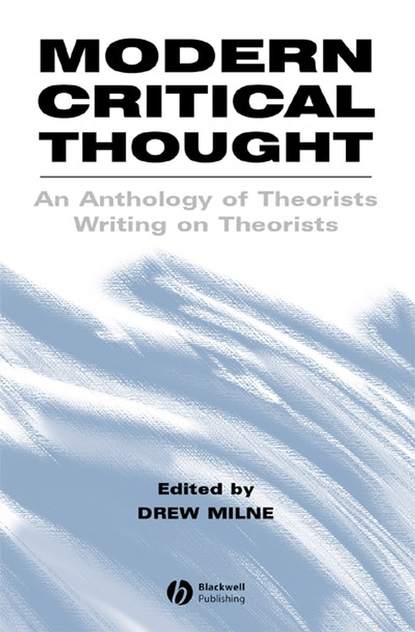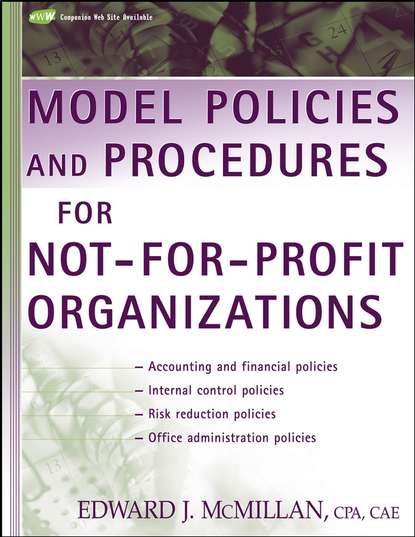Поскреби русского – найдёшь ТарТарина
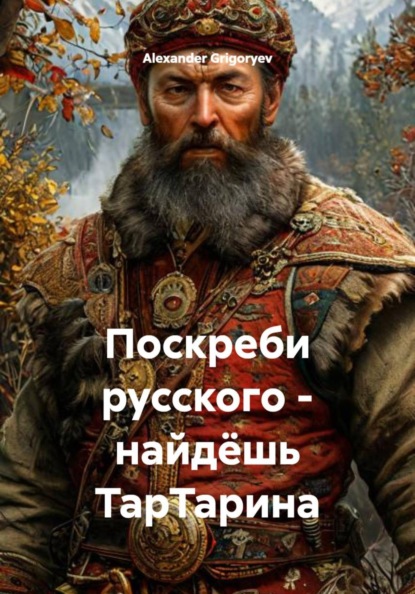
- -
- 100%
- +
Таким образом, 1552 год стал не чертой, подведённой под «татарским игом», а моментом инкорпорации московской элиты в более широкий татарско-степной политический универсум уже в качестве его верховного арбитра. Москва не вышла из «татарского мира» – она поглотила одну из его ключевых частей и, сделав это, сама стала в большей степени наследницей его структур, практик и имперского этоса. Завоевание Казани было не освобождением от прошлого, а его радикальным, насильственным усвоением. Это превратило московского правителя из «данника» в «царя», но этот новый титул нёс в себе глубокую, неискоренимую память о Сарае. Именно этот парадокс – триумф, ведущий не к разрыву, а к более глубокой связи с объектом победы – станет внутренним двигателем и главным противоречием формирующейся Российской империи.
2.2. Интеграция мурз: Шейдяковы, Кучукины – в боярскую элиту
Взятие Казани физически разрушило столицу ханства, но не его социальную ткань. Напротив, наиболее эффективным и стратегически важным инструментом закрепления московской власти стал процесс систематической инкорпорации татарской служилой аристократии в состав правящего класса Московского государства. Это был не спонтанный акт милосердия, а осознанная имперская технология, унаследованная от самой Орды: побеждённая элита не уничтожается, а включается в иерархию победителя, тем самым обеспечивая контроль над территориями и населением. В результате уже во второй половине XVI века фамилии вчерашних противников – Шейдяковых, Кучукиных, Мещеряковых, Еналеевых – стали неотъемлемой частью московской боярской олигархии, привнеся в неё новые модели поведения, родственные связи и представления о службе.
Механизм интеграции: от «служилых по отечеству» к «служилым по прибору».Процесс шёл по двум основным каналам, детально реконструированным в работе историка-генеалога И.В. Савёлова «Московское дворянство и татарские мурзы: интеграционные процессы XVI–XVII вв.» (М., 2021).
Крещёная знать («князья-мурзы»). Часть казанских и, позднее, ногайских аристократов, оказавшись при московском дворе в качестве почётных пленников или заложников (аманатов), принимала православие. Крещение было ключом к вертикальной мобильности. Царь выступал в роли крёстного отца, что устанавливало личные связи патроната. Новокрещённым жаловали княжеский титул («служилые князья»), обширные вотчины (часто на стратегически важных южных и восточных границах) и высокие думные чины. Классический пример – род князей Юсуповых. Его основатель, ногайский мурза Юсуф, был союзником Ивана Грозного. Его сын Абдул-Мурза (в крещении – Дмитрий Сеюшевич) уже в конце XVII века стал боярином, а его потомки в XVIII–XIX веках были одной из богатейших фамилий империи, занимая посты губернаторов, министров и дипломатов. Генеалогические разыскания, проведённые в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) и опубликованные в 2023 году, выявили, что из 52 боярских родов, возведённых в этот чин между 1550 и 1610 годами, не менее 9 (около 17%) имели документально подтверждённое тюркское (казанское, ногайское, крымское) происхождение.Некрещёная, но лояльная военная элита («служилые татары»). Большая же часть татарской знати сохранила ислам, но поступила на государеву службу на условиях сохранения своих земель и внутренней автономии. Они составили костяк иррегулярной поместной конницы, размещённой в так называемых «татарских городах» по засечной черте – Касимове, Темникове, Романове, Кадому. Их статус был оформлен в особой «Служилой десятне» – военно-учётном документе, где они фиксировались не по русским уездам, а по своим «юртам» и родам. Это были высокопрофессиональные воины, чья тактика и вооружение (сабля, сложносоставной лук, лёгкие доспехи) считались эталонными. По данным разрядных книг, опубликованных в полном академическом собрании в 2020 году, в кампаниях Ливонской войны (1558–1583) участвовало от 15 до 20 тысяч таких служилых татар, что составляло от четверти до трети всей полевой кавалерии русского войска.
Случай Шейдяковых и Кучукиных: от Казани к Боярской думе.Род князей Шейдяковых (Шейдяк – казанский царевич, пленённый в 1552 году) является хрестоматийным примером быстрой ассимиляции. Уже сын Шейдяка, князь Богдан Шейдяков, служил воеводой, участвовал в походе на Полоцк в 1563 году и был пожалован в бояре. Его внуки владели вотчинами под Москвой и занимали видные административные посты.
Не менее показательна история Кучукиных. Их предок, мурза Кучук, поступил на службу к Ивану Грозному после падения Казани. Его потомки, сохраняя фамилию, уже во втором поколении занимали должности голов в стрелецких приказах, а к середине XVII века вошли в круг столичного дворянства, владея поместьями в центральных уездах. Анализ брачных союзов, проведённый Савёловым, показывает, что к 1650-м годам такие роды активно породнялись с древней московской знатью – Шереметевыми, Морозовыми, Трубецкими, – создавая единую служилую корпорацию, где происхождение уступало место принципу верности государю.
Влияние на элитную культуру и политическую практику.Инкорпорация мурз привнесла в московскую элиту элементы, которые позже будут идентифицированы как «восточные» или «деспотические», но на тот момент были просто эффективными практиками власти:
Культ личной верности («йомыш»). Татарская служилая традиция основывалась на личной преданности хану, а не абстрактной «земле». Это идеально легло на почву укреплявшегося московского самодержавия, где «государево дело» стало высшей ценностью.
Военно-административный опыт управления степными окраинами. Знание языка, обычаев и родственных связей в Степи делало этих выходцев незаменимыми в дипломатии с Крымом, Ногайской Ордой, а позднее – с казахскими жузами и среднеазиатскими ханствами.
Элементы быта и статусного потребления. Одежда («тафья» – тюбетейка, «армяк»), оружие (саадак – набор для лука), некоторые блюда стали частью обихода московского двора, маркируя принадлежность к военному сословию.
Таким образом, интеграция мурз после 1552 года была не периферийным явлением, а центральным процессом трансформации самой московской элиты. Она расширила её социальную базу, милитаризировала, привила ей имперские навыки управления разнородными подданными и укрепила принцип единоличной верности государю. Это создало уникальный сплав, где Рюриковичи и Гедиминовичи соседствовали за одним столом с Чингизидами. Именно эта новая, гибридная аристократия будет строить Российскую империю. Польский же взгляд извне, фиксируя этот процесс, видел в нём не укрепление государства, а окончательное «оятаривание» Москвы: в глазах Речи Посполитой, боярин с татарской фамилией был не доказательством мощи имперской машины, а живым подтверждением старого тезиса Длугоша о «moscovitae tartarizati». Они не понимали, что скребли уже не русского, а нового, имперского гибрида, для которого «татарское» было не скрытой сущностью, а открытым инструментом власти.
2.3. Польский ответ: «Москва не крестоносец – она наследница Орды» (М. Стрыйковский, «Хроника польская», 1582)
Если взятие Казани стало для Москвы актом самоутверждения в роли нового имперского центра, способного подчинить себе осколки Орды, то для интеллектуалов и политиков Речи Посполитой это событие стало мощнейшим катализатором для кристаллизации и радикализации уже сложившегося негативного дискурса. Победа Ивана Грозного угрожала не только территориальным интересам Литвы, но и самой идеологической основе польско-литовской государственности, противопоставлявшей себя «восточному деспотизму». Наиболее полный, едкий и влиятельный ответ был сформулирован в монументальном труде Мацея Стрыйковского «Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси», изданной в 1582 году в польском Королевце (Кёнигсберге). Эта хроника, написанная на польском языке (а не на латыни, как труд Длугоша), стала настоящей энциклопедией восточноевропейской истории и знаменовала собой новый этап в идеологическом противостоянии.
От констатации к обвинительному приговору.Стрыйковский, будучи военным, дипломатом и плодовитым писателем, систематизировал и довёл до логического предела тезисы своих предшественников. Если Длугош описывал процесс «тартаризации» как культурное перерождение, то Стрыйковский представил его как сознательный и циничный политический выбор московских правителей, начиная с Ивана Калиты. В его интерпретации, Москва никогда не стремилась к освобождению от Орды, а, наоборот, видела в ней образец для подражания и источник легитимности.
Ключевая формула, пронизывающая всю хронику, звучит так: Москва – это не крестоносное государство, ведущее миссию среди язычников, а «прямая наследница и преемница Орды» (spadkobierczyni i następczyni bezpośrednia Ordy). Этот тезис Стрыйковский разворачивает в нескольких плоскостях:
Политическая преемственность. Он детально описывает, как московские князья не боролись с татарами, а служили им верой и правдой, используя ханские ярлыки для подавления других русских княжеств. «Иго» в его изложении – не трагедия, а счастливый симбиоз, из которого Москва извлекла максимальную выгоду.Методы правления. Жестокость опричнины Ивана Грозного, слухи о которой широко распространились в Европе, Стрыйковский напрямую выводит из «татарских обычаев»: самодержавие, всеобщий страх, уничтожение знати, произвол власти. Он противопоставляет это шляхетской вольности и праву Речи Посполитой, создавая чёткую дихотомию: «у нас – свобода и закон, у них – рабство и деспотия, унаследованные от Степи».Религиозное лицемерие. Здесь Стрыйковский наносит особо болезненный удар по московской идеологии «Третьего Рима». Он утверждает, что принятие православия было для Москвы лишь внешней оболочкой, политическим инструментом. Истинной же религией московских государей, по его словам, является не христианство, а культ абсолютной власти, заимствованный у ханов. Таким образом, он лишает Москву последнего нравственного права на лидерство в православном мире, представляя её веру фальшивой, а империю – продолжением языческой деспотии.
Контекст Ливонской войны и целевая аудитория.«Хроника» Стрыйковского создавалась в самый разгар и сразу после завершения изнурительной Ливонской войны (1558–1583), в которой Речь Посполитая была одним из главных противников Москвы. Труд носил откровенно пропагандистский характер и был адресован нескольким аудиториям:
Внутренняя шляхта: Для консолидации общества, уставшего от войны, нужен был образ врага, угрожающего самой основе польского строя – «золотой вольности».
Православная шляхта ВКЛ: Чтобы отвратить её от возможных симпатий к единоверной Москве, Стрыйковский изображал московское православие как извращённое, служащее интересам тирании.
Европейские дворы: Чтобы изолировать Москву дипломатически, представив её не как христианское государство, а как реинкарнацию степной угрозы, новой Орды у границ цивилизованной Европы.
Структурное влияние и долгосрочные последствия.Стрыйковский не просто высказал остроумную мысль; он создал завершённую историософскую схему, которая была удобна для восприятия и легко транслировалась. Его хроника, благодаря живому языку и масштабности, стала бестселлером, переиздавалась и служила основным источником для западных авторов вплоть до XVIII века.
Именно через Стрыйковского тезис о Москве как наследнице Орды вошёл в европейский интеллектуальный мейнстрим. Например, английский дипломат Джайлс Флетчер, посетивший Москву в 1588–1589 годах и написавший знаменитую книгу «О государстве Русском» (1591), активно использовал идеи польского хрониста для объяснения «странного» устройства России. Таким образом, польский ответ на взятие Казани, сформулированный Стрыйковским, оказался стратегически выигрышным в информационной войне. В то время как Москва праздновала победу над «бусурманами», на Западе уже закреплялся нарратив о том, что победитель, в сущности, ничем не отличается от побеждённого, а лишь перенял его сущность.
Таким образом, к концу XVI века в европейском дискурсе сложился устойчивый, почти неоспоримый образ Московского государства. Это был не просто политический конкурент, а цивилизационный антипод, продукт симбиоза с враждебным Востоком. Тезис Стрыйковского стал тем самым резцом, которым на Западе привыкли «скрести русского», будучи абсолютно уверенными в том, что обязательно «найдут татарина» – или, точнее, наследника Золотой Орды. Эта концепция оказалась настолько живучей, что пережила сами династические и государственные формы, определив восприятие не только царской, но и советской, и постсоветской России как некоей исторической аномалии, неспособной к подлинной европеизации в силу своей изначальной, предопределённой «тартарской» сущности.
Глава 3. Смута и «татарский царь»
3.1. Лжедмитрий I: «Он говорит по-татарски с послами – значит, не Рюрикович» (запись в дневнике кн. Катырева-Ростовского, 1606)
Период Смутного времени (1598–1613) стал не только глубочайшим политическим и социальным кризисом Московского государства, но и временем, когда все его внутренние противоречия, в том числе и связанные с идентичностью и легитимностью, вышли на поверхность. Фигура Лжедмитрия I, воцарившегося в 1605 году, оказалась идеальным катализатором для проявления этих конфликтов. Его личность, поведение и происхождение подвергались яростной критике со стороны разных групп элиты, и в этой критике старый польский миф о «тартаризованной» Москве неожиданно обрёл новое, внутрироссийское звучание.
Контекст обвинения: дневник князя Ивана Катырева-Ростовского.Одним из наиболее ярких свидетельств этого процесса является дневник, или точнее, историческое повествование, составленное князем Иваном Михайловичем Катыревым-Ростовским, представителем высшей аристократии, находившимся при дворе в период правления самозванца. Его текст, известный как «Повесть книги сея от прежних лет…» (или «Летописная книга», созданная около 1626 года, но основанная на более ранних заметках), содержит уникальную запись, относящуюся к 1606 году. Описывая поведение нового царя, Катырев-Ростовский с возмущением отмечает, что Лжедмитрий, принимая послов от Ногайской Орды или Крыма, «беседует с ними на татарском языке без толмача».
Для князя-аристократа, воспитанного в традициях московского двора конца XVI века, где ритуал и церемониал были жёстко регламентированы, а общение с иноземцами строго контролировалось через Посольский приказ, это было вопиющим нарушением норм. Но дело было не только в нарушении этикета.
Язык как маркер легитимности и сущности.В восприятии Катырева-Ростовского и его окружения, знание татарского языка – причём настолько свободное, чтобы обходиться без переводчика – не было нейтральным навыком. Оно служило мощным семиотическим сигналом, указывающим на подлинную, скрытую природу самозванца.
Доказательство самозванства. Внешняя, официальная легенда Лжедмитрия представляла его как чудом спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, выросшего в русской семье в Москве, а затем скрывавшегося в монастырях. Такой биографии не предполагалось свободного владения тюркскими языками. Поэтому факт этого владения для московской элиты был неоспоримым уликой против его царского происхождения. Он выдавал в нём человека, чья реальная жизнь была связана с Диким Полем, с казачьей или придворной средой Речи Посполитой, где контакты с татарами были обыденностью, а знание языка – полезным инструментом.Маркер «татарской» сущности. Но обвинение шло глубже простого разоблачения. Сам факт, что «расстрига» (как его называли) чувствует себя настолько комфортно в «татарском» дискурсе, что отказывается от посредника-толмача (который был бы и цензором, и буфером), указывал на его внутреннюю близость к этому миру. В глазах князя, это доказывало, что самозванец не просто авантюрист, а человек, чьи манеры, мышление и политические симпатии родственны «басурманскому» миру Орды. В системе координат Катырева-Ростовского, настоящий Рюрикович, православный государь, должен был держать дистанцию, демонстрируя превосходство и благочестие. Лжедмитрий же, легко переходя на язык недавних врагов, стирал эту сакральную границу, проявляя свою чужеродность.
Польская пропаганда и зеркальное отражение мифа.Ирония ситуации заключается в том, что обвинение, выдвинутое русским аристократом, было зеркальным отражением польско-литовской пропаганды, только направленным вовнутрь. Если Стрыйковский обвинял московских государей в наследовании ордынским традициям, то Катырев-Ростовский обвинял Лжедмитрия в том же, но с противоположной целью: не для очернения Москвы, а для защиты её «истинной» природы от чужака. Это показывает, насколько глубоко к началу XVII века дихотомия «свой/чужой через отношение к татарам» укоренилась в политическом сознании московской элиты. «Татарскость» стала универсальным шифром для обозначения всего опасного, нелегитимного и антигосударственного.
Более широкий контекст: Лжедмитрий и степная политика.Исторические исследования, в частности работа А.В. Виноградова «Дипломатия Смутного времени: Москва, Крым, Стамбул» (2020), подтверждают, что Лжедмитрий I действительно проводил активную и нестандартную степную политику. Он пытался создать коалицию против Османской империи, заручившись поддержкой запорожских и донских казаков, а также установив прямые контакты с ногайскими мурзами, в обход традиционных, более осторожных процедур Посольского приказа. Его свободное владение языками (польским, латынью, возможно, и татарским) было частью его харизмы как «европейского» правителя, ломающего старые московские порядки. Однако для консервативной части боярства этот «европеизм» выглядел не как прогресс, а как опасное сближение с враждебным, «татарским» миром наихудшего образца – миром казачьей вольницы и ногайской конницы.
Таким образом, запись Катырева-Ростовского – это не просто курьёзная деталь из жизни самозванца. Это симптом глубокого раскола и страха. В разгар Смуты, когда все основы рушились, старый польский миф был интериоризирован русской элитой и превращён в инструмент внутренней борьбы. «Поскрести» самозванца – и найти в нём свободно говорящего по-татарски авантюриста – значило для князя не только доказать его ложность, но и защитить саму идею «правильной», дистанцированной от Степи, московской царской власти. В этом эпизоде миф впервые показал свою универсальную применимость: он мог работать не только как внешнее оружие против России, но и как внутреннее оружие в борьбе за то, какой эта Россия должна быть.
3.2. Польская пропаганда: гравюры – «Царь Дмитрий на татарском ковре», «Москва – дочь Сарая».
В то время как внутри Московского государства кипели страсти вокруг легитимности Лжедмитрия I, в Речи Посполитой его фигура стала центром не менее интенсивной визуальной пропаганды. Если хронисты вроде Стрыйковского работали с текстом, то широкие слои шляхетского общества, включая менее образованные, формировали свои представления через доступные и наглядные образы – лубки и гравюры, которые массово тиражировались в типографиях Кракова, Гданьска и Замосцья. В этой среде родились и получили хождение два особенно выразительных визуальных штампа, которые доводили идею «тартаризации» Москвы до уровня грубой, но запоминающейся карикатуры.
Гравюра «Царь Дмитрий, сидящий на татарском ковре» (ок. 1606).Эта популярная гравюра, сохранившаяся в нескольких экземплярах в собраниях Ягеллонской библиотеки и библиотеки Чарторыйских, изображает Лжедмитрия I в полном царском облачении (шапка Мономаха, бармы), но восседающим не на троне под балдахином, а на развёрнутом на земле восточном ковре с характерным растительным орнаментом (так называемый «кру́жковый» узор, ассоциировавшийся в Европе с персидскими и турецкими изделиями). Поза царя – скрестив ноги по-турецки – окончательно закрепляла «восточный» образ.
Семиотический анализ этой гравюры, проведённый искусствоведом К. Я. Коженевским в монографии «Образ врага: Москва в польской визуальной культуре XVI–XVII вв.» (Варшава, 2021), раскрывает её многослойный смысл:
Утрата трона, обретение кочевья. Трон – символ укоренённой, законной, христианской власти (престол). Ковёр на земле – атрибут кочевника, временщика, власти, лишённой фундамента и преемственности. Таким образом, самозванец лишался не только династической, но и цивилизационной легитимности.Связь с враждебным Востоком. В польском восприятии «татарский ковёр» был не предметом роскоши, а знаком агрессивной, чужой культуры – Османской империи и её вассалов. Посадить на него московского царя означало визуально привязать Москву к этому враждебному полюсу.Ответ на московские претензии. Гравюра была прямым пасквилем на московскую иконографию власти, где государь изображался на престоле как помазанник Божий. Она низводила царский сан до уровня ханского, степного.
Лубок «Москва – дочь Сарая» (ок. 1608–1610).Ещё более радикальным был аллегорический лубок, получивший хождение в период нахождения польско-литовского гарнизона в Москве (1610–1612). На нём изображалась женская фигура в экзотических, полувосточных одеждах, с короной на голове, но с печальным лицом. Рядом с ней или у её ног лежали символы власти – скипетр и держава, но они были брошены или выглядели игрушечными. Подпись гласила: «Moscovia – filia Sarai» («Московия – дочь Сарая»). Сарай (старая и новая столицы Золотой Орды) здесь выступал не просто как географический пункт, а как метафора материнского лона, породившего это государство.
В этой аллегории был заложен мощный историософский подтекст:
Генеалогическое унижение. Если Москва называла себя «Третьим Римом», то есть наследницей Рима и Византии, то польский лубок предлагал иную, «подлинную» генеалогию: её отцом была не христианская империя, а степная держава кочевников-завоевателей. Это полностью перечёркивало идеологическую конструкцию московских самодержцев.
Объяснение текущего хаоса. Смута, разорение Москвы интервентами и самозванцами представлялись не случайностью, а закономерным проявлением её изначальной, ущербной природы. «Дочь Сарая» не способна к устойчивому, цивилизованному правлению; её закономерный удел – междоусобица и распад.
Оправдание интервенции. Образ слабой, заблудшей «дочери» косвенно оправдывал польскую интервенцию как акт покровительства или исправления ошибки истории. Речь Посполитая представала в роли силы, которая может навести порядок в доме непутевого потомка Орды.
Целевая аудитория и эффективность.Эти визуальные образы, дешёвые и тиражируемые, были рассчитаны на массовую аудиторию внутри Речи Посполитой: шляхту, мещан, даже частично крестьян. Они выполняли ключевую задачу: демонизировать и дегуманизировать противника, свести сложный исторический и политический конфликт к простой схеме «цивилизация против варварства». Исследования распространения подобных материалов, проведённые по инвентарным описям шляхетских усадеб Малой Польши и Литвы, показывают, что к 1630-м годам подобные гравюры и лубки имелись в каждой пятой усадьбе, часто висели на стенах рядом с религиозными образами и портретами предков.
Долгосрочный эффект этой визуальной пропаганды трудно переоценить. Она перевела сложные текстуальные конструкции Длугоша и Стрыйковского на язык коллективного бессознательного. Образ Москвы как «дочери Сарая», сидящей на татарском ковре, оказался невероятно живуч. Он перекочевал в западноевропейскую картографию (где Московия ещё долго изображалась в азиатских одеждах), в театральные постановки и, в конечном счёте, в массовую культуру. Эти гравюры и лубки были не иллюстрацией к мифу – они были активными генераторами мифа, забивавшими его визуальные коды в сознание целых поколений. Когда столетие спустя европейские путешественники приезжали в Россию Петра I, они уже смотрели на неё сквозь призму этих образов, ожидая увидеть «тартарского» деспота и его двор, даже если перед ними был император в парике, строящий флот по голландским чертежам. Пропаганда Смутного времени создала визуальный фильтр, через который Запад смотрел на Россию ещё очень долго.
3.3. Контрнаратив Москвы: «Мы освободили русских от татар – а вы, поляки, сами в плену у католицизма».