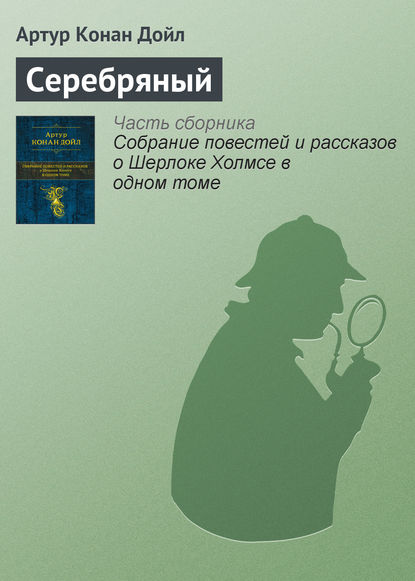- -
- 100%
- +
2.3. Подпись «Anna Regina» с кириллической «А» – скрытый код происхождения
Феномен подписи Анны Ярославны, этого лаконичного и ёмкого автографа, представляет собой нечто большее, чем просто любопытный исторический курьёз. Это материализованный в графике акт самоидентификации, уникальный политико-культурный жест, требующий многоуровневого прочтения. На хартии 1063 года, дарственной аббатству Сен-Крепен в Суассоне, перед нами разворачивается драматургия власти, памяти и культурной принадлежности, зашифрованная в нескольких буквах.
Внешне документ – это типичный акт средневековой королевской канцелярии. Он составлен на латыни, языке сакральной и светской власти Запада. Текст выведен профессиональной рукой писца. В нём королева Анна, действуя от имени своего сына, малолетнего короля Филиппа I, подтверждает дарения монастырю. Вся эта процедура подчинена устоявшимся нормам франкской юридической традиции. Однако в самый момент утверждения, в точке, где воля властителя должна быть закреплена личным знаком, происходит семиотический сбой, точнее – сознательное вторжение иного кода.
Под текстом хартии стоит её собственноручная подпись. Она состоит из двух слов, но написана не единой графической системой. Первое слово,«АНА», начертано чёткой, уверенной кириллицей. Буква «А» представляет собой классический кириллический уставной знак, отличный по начертанию от латинского «A». Второе слово, «РЪИНА», является попыткой передать латинский титул «Regina» (королева) средствами кириллической азбуки, адаптируя непривычные для славянской фонетики звуки (отсюда твердый знак «Ъ», вероятно, обозначающий редуцированный гласный, и «И» для латинского «i»).
Этот графический гибрид невозможно интерпретировать как простую неграмотность или неумение писать латинскими буквами. Анна, безусловно владевшая латынью на уровне, достаточном для управления, могла бы, подобно многим своим современникам, поставить простой крест (signum crucis) или продиктовать писцу стандартную формулу. Она избрала иной путь. Как утверждает палеограф и историк письменности Алексей Гиппиус в статье «Автографы древнерусских князей: семиотика жеста» (2024), данный автограф является «актом интродукции иного культурного кода в сердцевину западноевропейской документальной практики». Кириллическая «А» здесь – это не просто буква, а графема-маркер, топографический знак, указывающий на иное происхождение, иную генеалогию власти.
Этот жест можно расшифровать в нескольких взаимосвязанных плоскостях:
Династическое утверждение. Подписываясь кириллицей, Анна визуально и непреложно заявляет о своём происхождении из дома Рюриковичей, «рода русского». Она не растворяется бесследно в династии Капетингов, но оставляет неизгладимый след своего отдельного, суверенного королевского статуса, унаследованного от отца, Ярослава Мудрого, правителя державы, сравнимой по масштабу и амбициям с западными империями.Культурное сопротивление (soft resistance). В условиях, когда её новая среда наверняка оказывала на неё мощное ассимиляционное давление, этот акт можно рассматривать как форму мягкого, но стойкого культурного сопротивления. Она принимает титул «королева», но присваивает его, записав в своей собственной графической системе. Это тихий, но выразительный протест против полной аннигиляции её прежней идентичности.Демонстрация учёности как власти. В эпоху, когда даже многие короли оставались неграмотными (rex illiteratus), свободное владение письмом, да ещё в двух системах, было признаком исключительного интеллектуального и духовного превосходства. Кириллическая подпись в этом контексте – не признак варварства, а, напротив, демонстрация принадлежности к не менее сложной и развитой письменной культуре, восходящей к византийской учёности.Создание «скрытого кода» для будущего. Этот автограф, хранящийся в архивах Франции, стал своего рода капсулой времени, посланием в будущее. Он буквально «зашифровал» её русское происхождение в документе, который для непосвящённого взгляда выглядел бы совершенно обычным. Только тот, кто знает кириллицу, мог прочесть этот код. Таким образом, Анна обеспечила, чтобы её связь с Русью не была стёрта историей материально, на уровне самого документа.
Историческая судьба этого кода трагична и символична. Он остался скрытым и невостребованным на протяжении столетий. На Руси о нём не знали, а во Франции он воспринимался как экзотическая диковина, не влекущая за собой культурных последствий. Этот единственный, изолированный акт символического утверждения «инаковости» не породил традиции, не стал началом «русской линии» в истории Франции. Кириллическая «А» так и осталась островком в море латинского текста – яркой, но одинокой точкой на карте культурных контактов, точкой, которая не смогла стать центром нового смыслового континента. Она предвосхитила будущую роль «внутреннего француза» как носителя иного кода внутри чужой системы, но в её случае этот код так и не был активирован для диалога, оставшись вечным, прекрасным и печальным памятником самого себя.
2.4. Почему наследие не укоренилось: отсутствиеобратного потока
Личность и судьба Анны Ярославны представляют собой исторический парадокс. Фигура исключительной символической весомости, королева-книжница, соединившая в себе три культурных кода, тем не менее не оставила после себя сколько-нибудь заметного следа в истории русско-французских связей. Её наследие не укоренилось ни в одной из двух цивилизаций, между которыми она формально стояла. Причиной этого феномена является фундаментальный, системный дисбаланс, который можно определить какполное отсутствие обратного культурного, интеллектуального или миграционного потока из Франции на Русь в XI–XII веках. Анна была единичным экспортным «товаром» в династической сделке, после поставки которого каналы коммуникации были свёрнуты, а интерес к стране-отправителю утрачен.
Это отсутствие потока было обусловлено рядом взаимосвязанных структурных факторов.
Во-первых, кардинальное несовпадение цивилизационных траекторий и потребностей. Русь XI века, только что утвердившаяся в православном византийском мире, не испытывала никакой потребности в заимствованиях с латинского Запада. У неё был свой, переживающий расцвет, источник веры, права, искусства и учёности – Константинополь. Византийская культурная парадигма была комплексной, самодостаточной и сакрально авторитетной. Франция же в тот период не могла предложить ничего сопоставимого по притягательности. Она не являлась ни имперским центром, ни ведущим очагом богословия или философии (этот статус завоюют парижские школы лишь столетием позже). Для русского книжника, нуждавшегося в богослужебных текстах, житиях, проповедях или летописных образцах, латинские рукописи из Франции были бесполезны и даже еретичны. Не существовало функционального запроса на французский культурный продукт.
Во-вторых, институциональная и коммуникационная изоляция. Брак Анны не повлёк за собой установления постоянных дипломатических миссий, регулярных торговых караванов или обмена монашескими делегациями. Путь из Киева в Париж был чрезвычайно длинным, сложным и опасным, пролегая через территории враждебных или чуждых государств (Польша, Священная Римская империя). Не было инфраструктуры для поддержания связи. В то время как ганзейские купцы создали в Новгороде постоянную факторию с чёткими правилами, никакого «французского подворья» в Киеве или ином городе Руси не возникло и не могло возникнуть в силу отсутствия экономических предпосылок.
В-третьих, демографический и социальный ноль. После отъезда Анны во Францию не последовало никакой группы сопровождения, которая могла бы стать ядром для передачи знаний или традиций. Не отправились вслед за ней французские рыцари на службу киевскому князю, как это позже будет с шотландцами или немцами. Не прибыли монахи-бенедиктинцы или цистерцианцы с миссией или для основания монастыря. Не приехали учёные клирики для преподавания в несуществовавших тогда на Руси университетах. Анна оказалась в абсолютном культурном одиночестве, «голым» дипломатическим активом без поддерживающего контекста. Её личная грамотность так и осталась её личным достоянием, не будучи институционализирована в виде школы, библиотеки или даже традиции обучения её французских детей славянской грамоте (нет никаких свидетельств, что Филипп I знал кириллицу).
В-четвёртых, стремительное забвение на родине. На самой Руси память об Анне практически исчезла сразу после её отъезда. В летописях, включая «Повесть временных лет», о её дальнейшей судьбе и её потомках не содержится никаких сведений. Её не вспоминали как значимую фигуру в политических или культурных нарративах. Она не стала частью национального мифа или поучительного предания. Это забвение красноречиво свидетельствует о том, что её отъезд воспринимался современниками не как начало важного направления, а как завершённый, исчерпанный эпизод династической политики, не имеющий продолжения. Как заключает исследовательница средневековых представлений Екатерина Мельникова в работе «Чужой среди своих: Образы заморских княжен в древнерусской литературе» (2023), «Анна Киевская для древнерусского книжника была не посланницей или мостом, а скорее утраченной, вычеркнутой из актуальной истории ветвью рода, чья жизнь продолжилась в чуждом, “немецком” мире, переставшем быть релевантным».
Таким образом, феномен Анны Ярославны служит идеальной иллюстрацией тезиса о том, что для зарождения устойчивого «внутреннего француза» недостаточно единичного, даже яркого контакта. Необходимадвусторонняя, продолжительная и интенсивная циркуляция людей, текстов, идей и практик. В эпоху Меди такой циркуляции не существовало. Карта связей оставалась односторонней: из Руси на Запад (в лице одной княжны) без какого-либо встречного движения. Лишь столетия спустя, когда сама Россия, переформатированная в империю, ощутит острую потребность в западных моделях, этот встречный поток станет бурным и всепоглощающим, породив ту самую внутреннюю раздвоенность, которой не знала Анна – королева, сумевшая сохранить своё «Я» в мире «Je», но не сумевшая и не стремившаяся изменить ни тот, ни другой мир.
Глава 3. Три столетия тишины: 1240–1689
3.1. Орда, Смута, изоляция – и полное отсутствие французского следа
Период с середины XIII до конца XVII столетия можно обозначить в истории русско-французских восприятий как эпоху«великого нуля». Это были три с половиной века почти абсолютной тишины, взаимного неведения и отсутствия сколь-либо значимых точек соприкосновения. В то время как Франция переживала становление централизованного королевства, Ренессанс, Религиозные войны и расцвет абсолютизма при Людовике XIV, русские земли прошли через катаклизмы, кардинально изменившие их геополитическую ориентацию, социальную структуру и культурный облик. Эти катаклизмы – монголо-татарское нашествие и иго, централизация вокруг Москвы, Смутное время и церковный раскол – создали плотный внутренний фокус и мощные защитные барьеры, которые сделали Францию не просто далёкой, а фактически несуществующей величиной в русском ментальном пространстве.
Первый и главный фактор – монгольское иго (с 1240-х годов). Разгром Киева войсками Батыя в 1240 году и установление верховной власти Орды над русскими княжествами на двести с лишним лет совершили тектонический сдвиг. Внешнеполитические и торговые векторы, прежде ориентированные на юг (Византия) и запад (Ганза), были грубо переориентированы на восток. Выплата дани («выхода»), регулярные поездки князей в Сарай за ярлыками, включение Руси в систему трансконтинентальных коммуникаций Монгольской империи («Великий шёлковый путь» её северной ветвью) – всё это отдалило Русь от Европы физически и психологически. Как отмечает историк Александр Голубенков в монографии «Русь и Орда: цивилизационный разлом» (2023), «европейский Запад стал для Руси не источником угрозы (как в домонгольский период), а просто исчезнувшим горизонтом, уступив место куда более актуальному и суровому восточному сюзерену». В этих условиях установление каких-либо связей с Францией, находившейся на крайнем западе европейского субконтинента, было абсолютно неактуальной, почти фантастической задачей.
Второй фактор – формирование Московского царства и его идеология. Процесс «собирания земель» вокруг Москвы, завершившийся созданием централизованного государства при Иване III и Иване IV, сопровождался выработкой новой идеологической доктрины. Её стержнем стала концепция «Москва – Третий Рим», сформулированная в начале XVI века монахом Филофеем. Эта концепция, подробно проанализированная в работах Михаила Крома, утверждала не просто преемственность от павшего Константинополя, но и уникальную, мессианскую роль Московского царства как единственного хранителя истинного православия в мире, погружённом в ересь (католичество) или неверие. В рамках этой парадигмы латинский Запад, включая Францию, воспринимался не как партнёр для диалога, а как часть падшего, враждебного духовного пространства. Любые контакты с ним, кроме самых прагматичных и вынужденных (как с Ливонией или Швецией во время войн), считались подозрительными и духовно опасными.
Третий фактор – Смутное время (1598–1613) и его последствия. Катастрофа начала XVII века, в ходе которой государственность оказалась на грани уничтожения, а интервенция польско-литовских и шведских войск воспринималась как «латинское нашествие», окончательно закрепила в массовом сознании образ Запада как источника смертельной угрозы. Хотя отдельные европейские наёмники (преимущественно немцы и шотландцы) служили в русских войсках, а дипломатические контакты с Англией и Голландией существовали, Франция в этих процессах не участвовала. Она была поглощена внутренними религиозными войнами и не проявляла интереса к событиям на далёкой восточной окраине Европы. После избрания Михаила Романова в 1613 году наступил период глубокой внутренней консолидации и изоляционизма, направленного на восстановление страны и ограждение её от «поветрий» с Запада.
Четвёртый фактор – церковный раскол середины XVII века. Реформы патриарха Никона, направленные на унификацию богослужебных книг и обрядов по греческим образцам, вызвали не только внутренний раскол, но и новую волну ксенофобии. Сторонники «старой веры» видели в реформах проникновение «латинской» или «греческой» ереси, что усиливало общую подозрительность ко всему иноземному. Власть же, даже проводя реформы, не была заинтересована в открытии страны, опасаясь идеологического и политического влияния извне.
Результатом действия этих факторов сталополное отсутствие французского следа в русской культуре, политике и быту этого долгого периода. В русских документах, летописях, житийной литературе, полемических трактатах упоминания о Франции единичны и носят характер абстрактных географических или религиозных клише («франки», «французская земля», «часть латинства»). Ни одного французского купца, дипломата, путешественника, наёмника или священнослужителя, оставившего сколько-нибудь заметный след в русских источниках этого времени, историкам обнаружить не удалось. Французская культура, переживавшая в это время взлёт – от архитектуры готики и Ренессанса до философии Декарта и литературы Рабле, – осталась за пределами русского культурного горизонта.
Таким образом, к моменту прихода к власти Петра I Франция представляла для России не столько реальную страну, сколько мифологизированную абстракцию на самом краю известного мира. Это была terra incognita, лишённая конкретных черт и эмоциональных коннотаций. Такая «чистота» восприятия, однако, создала парадоксальные условия для будущего: отсутствие негативного исторического багажа (в отличие от отношений с Польшей или Швецией) и предрассудков позволило Петру и его преемникам строить образ Франции практически с нуля, как чистый лист, на котором можно было начертать идеализированный проект Просвещения и абсолютной монархии. Но для этого предстояло прорубить не только «окно в Европу», но и длинный, прямой коридор в Версаль, заложив тем самым основы для будущей, неизбежной и болезненной драмы «внутреннего француза».
3.2. Кардинал Ришельё о Московии:«trop barbare pour l’ordre européen»(1636)
В то время как Россия в XVII веке погружена в свои внутренние катастрофы и изоляцию, на противоположном краю Европы формируется представление о ней как о явлении, находящемся за пределами не только политических, но и цивилизационных границ континента. Наиболее ёмко и авторитетно эту позицию выразил один из архитекторов современной европейской государственности, первый министр Франции кардиналАрман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё (1585–1642). В его знаменитом «Политическом завещании» (Testament politique), составленном в 1630-х годах для наставления королю Людовику XIII, содержится лаконичная, но убийственная характеристика России.
В разделе, посвящённом анализу сил и потенциалов европейских держав, Ришельё, рассуждая о возможных союзниках против габсбургской гегемонии (Испании и Австрии), мимоходом касается Московии. В оригинальном тексте, установленном в критическом издании Франсуазы Ильшер (1995), эта фраза звучит так:«La Moscovie, qui est un État fort barbare, n’est pas capable d’entrer dans le système de l’Europe». В вольном, но точном по смыслу переводе: «Московия, будучи государством весьма варварским, не способна войти в систему Европы».
Этот вердикт, вынесенный в 1636 году, является не просто частным мнением, а диагнозом, поставленным с позиций зарождающегосярационального государственного интереса (raison d’État) и европейского концерта держав. Чтобы понять его вес, необходимо рассмотреть контекст, в котором он был произнесён.
Во-первых, геополитический контекст. Ришельё был главным стратегом Франции в Тридцатилетней войне (1618–1648), конфликте, перекроившем карту Европы и заложившем основы Вестфальской системы международных отношений, основанной на суверенитете национальных государств. Он скрупулёзно оценивал каждого потенциального участника этой «большой игры». В его планы входило создание коалиции против Габсбургов, куда он привлекал Швецию (Густав II Адольф), протестантские княжества Германии, Османскую империю. Россия же в этой схеме даже не рассматривалась как субъект. Причина проста: она была полностью отрезана от основных театров военных действий. Более того, в 1632–1634 годах Россия вела неудачную для себя Смоленскую войну с Речью Посполитой (союзником Габсбургов), но её действия были настолько слабы и изолированы, что не оказали никакого влияния на общеевропейский расклад сил. Для Ришельё Московия была геополитическим нулём – слишком далёкой, слишком слабой и слишком хаотичной, чтобы её можно было учесть в расчётах.
Во-вторых, культурно-цивилизационный контекст. Слово «barbare» (варварский) в устах Ришельё несло конкретную семантическую нагрузку. Оно означало не просто жестокость или невежество, а нахождение вне рамок латинско-христианской, романо-германской правовой и политической традиции. «Система Европы» (le système de l’Europe), о которой он говорит, – это система, основанная на общем историческом фундаменте Римского права, схоластической теологии, дипломатическом протоколе, унаследованном от папского и императорского дворов, и общей (пусть и расколотой) христианской культуре. Россия, с её православной, византийско-монгольской наследственностью, с её самодержавной моделью власти, не ограниченной сословным представительством или правовыми кодексами в западном понимании, выглядела чужеродным элементом. Она не соответствовала критериям «порядка» (ordre), который Ришельё как раз и стремился навязать Европе – порядка, основанного на французской гегемонии и рациональном управлении.
В-третьих, информационный контекст. Оценка Ришельё базировалась на чрезвычайно скудных и искажённых сведениях. Основными источниками информации о Московии во Франции того времени были сочинения польских публицистов (заведомо враждебные), отрывочные донесения папских нунциев, пытавшихся проникнуть в Россию для пропаганды унии, и рассказы немногочисленных путешественников, вроде капитана Жака Маржерета, служившего при Лжедмитрии I и издавшего в 1607 году «Состояние Российской империи». Эти тексты рисовали картину деспотизма, жестокости, религиозного фанатизма и технологической отсталости. Прямых дипломатических отношений между Францией и Россией не существовало вплоть до 1615 года, когда в Москву прибыло первое французское посольство во главе с де Томой, но оно не достигло существенных результатов и не изменило сложившихся стереотипов.
Таким образом, афоризм Ришельё фиксирует не просто отсутствие контактов, аосознанное исключение России из проекта европейской цивилизации, каким он виделся французской элите эпохи барокко. Это был приговор, вынесенный с позиции силы и культурного высокомерия. Однако историческая ирония заключается в том, что менее чем через столетие после смерти кардинала его далёкий родственник, герцог де Ришельё (Арман Эмманюэль дю Плесси, 1766–1822), губернатор Одессы и «строитель Новороссии», будет на практике воплощать прямо противоположную задачу: не исключать Россию из Европы, а строить европейские города на русской земле, тем самым закладывая материальные основы для будущего мучительного и плодотворного диалога. Но в середине XVII века до этого было ещё далеко. Диагноз Ришельё на долгие десятилетия оставался каноническим выражением западного, и в частности французского, взгляда на Россию как на вечную периферию, «варварскую» alter ego Европы, образ, который впоследствии предстояло с невероятным трудом и ценой внутренних расколов преодолевать русским западникам и самим французским просветителям.
3.3. Герцог де Ришельё (XIX в.) – не продолжатель, авозрождение прерванной нити
Фигурагерцога Армана Эмманюэля дю Плесси де Ришельё (1766–1822), градоначальника Одессы и генерал-губернатора Новороссийского края, стоит в истории русско-французских отношений как символ парадоксального преемства и кардинального разрыва. Хотя он и носил ту же фамилию и титул, что и знаменитый кардинал XVII века, он был не его прямым потомком, а представителем боковой ветви рода. Эта генеалогическая деталь приобретает глубокий метафорический смысл: его деятельность в России не была продолжением политики предка, а представляла собой возрождение прерванной на три столетия нити, но уже на совершенно новых основаниях. Если кардинал Ришельё видел в Московии варварскую периферию, недостойную включения в европейский порядок, то герцог Ришельё своей жизнью и службой доказал, что Россия может не только войти в этот порядок, но и стать пространством для его созидания.
Контекст разрыва и новая эпоха. К моменту рождения герцога де Ришельё в 1766 году отношения России и Франции прошли через трансформацию, немыслимую для эпохи его знаменитого тезки. Петровские реформы, век Просвещения, увлечение Екатерины II французскими философами – всё это сделало Францию главным культурным референтом для русской аристократии. Однако сам герцог оказался в России в силу трагических обстоятельств Великой французской революции. Будучи роялистом и эмигрантом, он поступил на русскую военную службу в 1790 году, сражался против турок и проявил незаурядную храбрость при штурме Измаила под командованием Суворова. Этот биографический поворот уже знаменателен: французский аристократ находит новую родину и смысл службы в империи, которую его предок считал «варварской».
Созидатель «европейского города на русской земле». Подлинным призванием Ришельё стало не военное дело, а государственное управление. В 1803 году император Александр I назначил его градоначальником Одессы, а в 1805 году – генерал-губернатором всего Новороссийского края. За одиннадцать лет его руководства (1803–1814) Одесса из заштатного пыльного порта с населением около девяти тысяч человек превратилась в цветущий космополитический мегаполис Юга с населением, превысившим тридцать пять тысяч. Ришельё воплотил в камне и административных регламентах ту самую «систему Европы», о невозможности которой для России говорил кардинал.
Он действовал как просвещённый европейский администратор: ввёл городское самоуправление по образцу западных магистратов, учредил коммерческий суд, открыл гимназию и коммерческое училище, основал типографию и первую в городе газету. Он способствовал строительству порта, таможни, театра, биржи, заложил бульвары и парки. По его инициативе была создана карантинная служба, борющаяся с эпидемиями, и введены льготы для иностранных колонистов и купцов, что привлекло в город греков, итальянцев, евреев, немцев, болгар. Как пишет историк-урбанист Олег Губарь в монографии «Одесса времен герцога де Ришельё» (2022), «Ришельё мыслил Одессу не как русскую крепость, а как вольный портовый город Средиземноморского типа, чьи законы и дух должны были притягивать капиталы и таланты со всей Европы». Он материализовал идеюпросвещённой колонизации – не военной, а культурной и экономической.