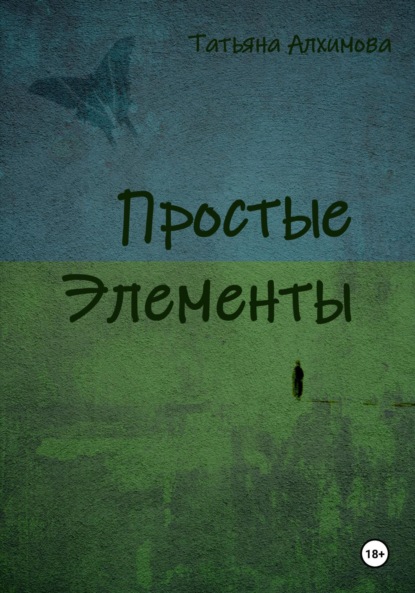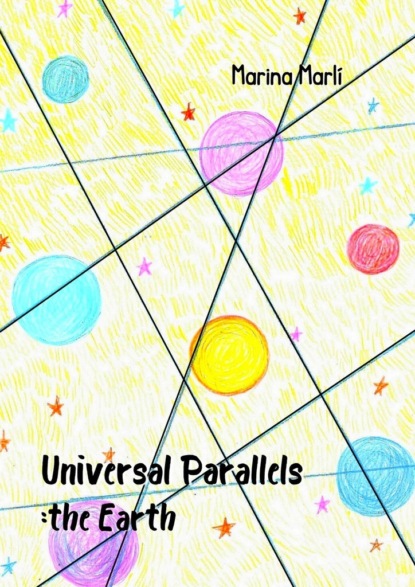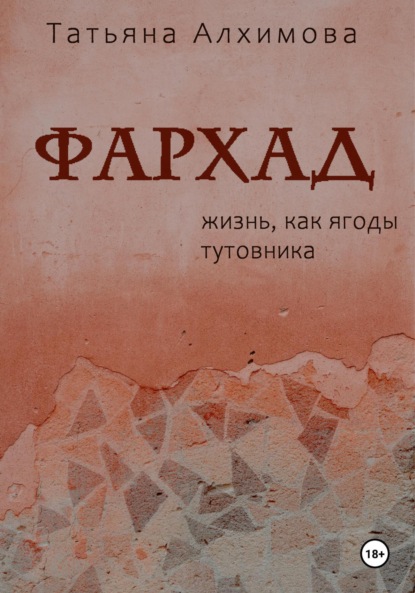Молодой художник Натан, приверженец современного искусства, ищет общения с людьми посредством Человеческой библиотеки. Он собирает истории, пытаясь понять мир, себя и найти в них недостающие элементы для творчества, в котором случился застой.
Одержимый навязчивой идеей добраться до сути случайной знакомой, Натан бросается в омут неизвестных чувств, попутно разрушая собственное хрупкое душевное равновесие и отношения с прекрасной Эло, забравшей его к себе совсем юным.
Но рождённая его рукой картина, обозначенная венцом творчества, скорее будет жестокой шуткой судьбы...
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация