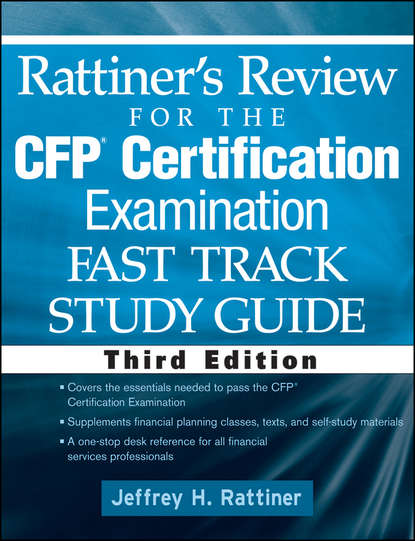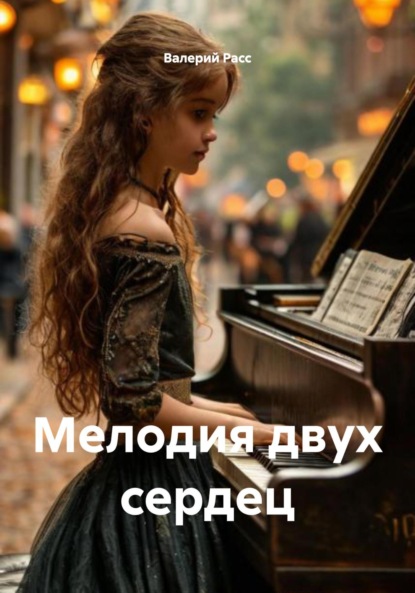- -
- 100%
- +
Когда Маджиде не нравилось что-либо в поведении других, она первым делом задавалась вопросом: «А не поступаю ли я так сама?» Но очевидно, что ни одна из ее подруг ни разу в жизни не задала себе подобного вопроса.
Она ощутила к ним глубочайшее презрение. Поэтому сочла недостойным себя принимать эту историю близко к сердцу настолько, чтобы это могло изменить ее жизнь.
«Что бы они ни делали, я даже внимания не буду обращать!» – решила она. Затем встала, пошла в ванную, умылась. Хорошенько ополоснула лицо. Вернувшись к себе, снова села на миндер, взяла в руки учебник, который только что отшвырнула, и довольно спокойно принялась за завтрашние уроки.
Время от времени она отвлекалась, перед ее глазами возникали насмешливые лица подруг, смущенный и возмущенный Бедри. Однако, слегка тряхнув головой, Маджиде, упрямо нахмурившись, старалась отогнать от себя эти мысли и снова погружалась в чтение.
На следующий день школа вовсе не показалась ей такой, какой она боялась ее увидеть. Еще по пути туда она заметила, что ее ничто не тяготит. Ноги быстро и легко несли ее по разбитым тротуарам, словно она шла получить добрую весть. До начала уроков и во время перемен она убедилась, что подруги нашли новые темы для злословия и что событие двухдневной давности позабылось гораздо раньше, чем она ожидала. Правда, она вздохнула облегченно, хоть и немного грустно, поняв, что никогда не занимала большого места в мыслях своих одноклассниц и никогда не смогла бы надолго остаться в центре внимания класса.
Через несколько дней жизнь вернулась в привычное русло. Только теперь они занимались музыкой всемером. Бедри был более рассеян и более раздражителен, чем прежде. Теперь он мог иногда накричать на учеников из-за пустяков, но потом, словно прося прощения, заискивающим взглядом смотрел по сторонам. По отношению к Маджиде он был особенно деликатен, так, что это граничило с робостью. Казалось, он догадался, сколько огорчений пережила из-за него девушка. Он всячески пытался дать ей понять, что на самом деле ничего плохого не случилось и что в случившемся нет его вины. Иногда, сталкиваясь на переменах в коридоре, они обменивались короткими взглядами и замечали, что понимают друг друга. Иногда, когда все были на уроке, Бедри проходил мимо их класса. Маджиде хорошо слышала, как замедляются его шаги у застекленной двери, и чувствовала, что его глаза ищут ее.
Между ними установилась тайная близость двух людей, с которыми обошлись одинаково несправедливо. На Маджиде особенно сильно действовала мрачность и задумчивость Бедри. Возвращаясь домой по вечерам, она нарочно отставала от подруг, чтобы издали посмотреть на Бедри, который выходил на рынок или в город по каким-нибудь делам, и долго провожала взглядом его высокую, чуть сутулую фигуру с непременно склоненной головой до тех пор, пока он не исчезал из виду внизу спуска. Ей делалось очень неприятно, когда он слишком долго разговаривал с какой-нибудь девушкой в классе, хотя она и не хотела себе признаться в этом. В такие минуты она задавалась вопросом: «Может быть, директор был прав?» Но, вспомнив, что ее отношение к Бедри переменилось лишь после вмешательства директора, она пыталась оправдаться перед своей совестью.
Хотя все в классе забыли о недавнем происшествии, стоило Бедри по любому поводу подойти к Маджиде или заговорить с ней, как все опять многозначительно переглядывались. Это смущало Маджиде и отчего-то еще более сближало ее с Бедри. Теперь уже на каждом уроке она не сводила глаз с двери. С замиранием сердца она ожидала, когда Бедри пройдет по коридору, и как только в коридоре раздавались шаги, она под любым предлогом поворачивалась к двери. Хотя она и боялась сделать что-то такое, что сразу заметят окружающие, обычно она смело отвечала на долгие взгляды Бедри, гордясь собственной храбростью.
Однако ее характер и положение Бедри не позволяли этим чувствам проявляться сильнее. Напротив: молодой человек не пользовался возможностью поговорить с Маджиде ни на своем уроке, ни на перемене, ни после уроков, лишь иногда неожиданно и украдкой смотрел на нее таким взглядом, словно хотел без слов выразить свои чувства.
Она больше не была безразлична ему. Директор, сам того не желая, заставил Бедри взглянуть на Маджиде другими глазами. Теперь он заметил, что девушка выделяется не только незаурядным музыкальным дарованием, но и красотой: прекрасной статью, красивыми руками и выразительными глазами. В ее манере говорить и держаться не было ничего наигранного, а редкая для женщин смелость и открытость, а также способность прямо и открыто смотреть собеседнику в глаза придавала ее взгляду глубину и особый смысл, так что эта шестнадцатилетняя девушка, умевшая решительно проявить свою волю, сильно отличалась от своих соучениц.
Бедри с нетерпением ждал урока с ней, однако в часы уроков, которые уже снились ему по ночам, он не уделял Маджиде и половины того внимания, которое уделял другим ученикам. Очевидно, что причиной такого поведения была боязнь бросить тень на девушку. Он вовсе не хотел никакой связи между учителем и ученицей, каких до отвращения много случается в каждой школе. Кроме того, очевидно было, что Маджиде была талантливее других учеников, так что на нее много времени тратить не требовалось. Однако наряду со всеми этими причинами была еще одна, которая, с одной стороны, сильнее отдаляла его от девушки, а с другой стороны, по правде, сильнее к ней приближала: Бедри был натурой артистической, неспособной сдерживать свои чувства. Он страшился полюбить – полюбить сильно и всерьез. И поэтому он пытался избежать этой опасности сухим обращением с девушкой, надеясь этим отдалить девушку от себя. Однако удавалось ему это плохо, и, когда он был уверен, что на него никто не смотрит, он не мог удержать себя, чтобы не смотреть на нее взглядом, полным бесконечной нежности и восхищения. Его никогда не огорчало, что девушка замечает его тайные взгляды.
Особенно его радовала сдержанность Маджиде. Ведь если бы она хоть чем-нибудь выразила удовлетворение, это огорчило бы его не меньше, чем ее холодность и безразличие.
Тем временем, пока оба этих человека, так совпавшие духовно, пытались разобраться со своими принципами, заложенными воспитанием, – у одной они были от юности, а у другого – от творческой натуры, учебный год кончился, наступили каникулы. Бедри уехал в Стамбул к матери, а Маджиде почти не покидала большой деревянный дом отца. У молодых людей не осталось ничего на память друг о друге, кроме нескольких групповых фотографий, которые были сняты в школьном саду и во время шествия в День Пятого мая[11]. Однако в их памяти надолго остались не столько образы друг друга, сколько воспоминания о сильных чувствах, которые они действительно пережили, и о тех, которые испытали лишь в своем воображении.
Отправляясь на станцию, Бедри сел в коляску. По дороге он увидел Маджиде вместе с несколькими соученицами. Девушки поклонились учителю, и хотя Бедри и Маджиде не осмелились даже посмотреть друг на друга, им показалось, что они обменялись долгим-долгим взглядом.
В сентябре, когда снова начались занятия, в школу приехал новый преподаватель музыки. Говорили, что Бедри остался в Стамбуле. Тот год не оставил в памяти Маджиде почти никаких следов. Новый преподаватель был также очень молод и стал по-прежнему заниматься с девушками индивидуально. С группой других учеников Маджиде участвовала в нескольких концертах и имела успех. Затем она сдала экзамены по нескольким предметам, которые вряд ли добавили ей знаний, и окончила среднюю школу, лишь один раз прибегнув к помощи отца – на экзамене по французскому языку.
Теперь все было кончено. Что делать девушке дальше, не знали ни учителя, ни мать, ни отец Маджиде, как не знали этого ни учителя, ни родители других девушек. Ее судьбу, как и судьбу многих других девушек, теперь должна была определить случайность. Быть может, через некоторое время Маджиде захотят выдать замуж, она непременно откажет, найдут другого, откажет и этому; но долго такое сопротивление продолжаться не сможет; рано или поздно причины для этого кончатся, и девушка покорится, будь что будет! И что-нибудь будет…
Вот что значит жизнь – туманное, беспокойное море, где впереди ничего не видать. Зачем нужна воля, когда всем распоряжается случай? К чему чувства, распирающие нам грудь, и мысли, наполняющие наш разум, если им все равно нет применения? Разве не спокойней, не благоразумней воспринимать готовые формы, данные жизнью и средой, нежели идти в мир с намерением самому строить собственную жизнь и менять мир вокруг?
Такого рода туманные мысли и вопросы теснились в голове Маджиде, и пока она искала на них ответ, дни, как стебли под серпом жнеца, падали один за другим, один на другой. Девушка пыталась развеяться игрой на фортепиано. Ей без особого труда удалось уговорить отца купить старый расстроенный инструмент, очевидно некогда стоявший в доме какой-то греческой семьи, а сейчас дешево продававшийся Управлением выморочного имущества. Но этот жалкий, разбитый, поставленный в дальний угол гостиной второго этажа инструмент нагонял на нее лишь тоску, а свет свечей в стоявших на нем ржавых подсвечниках лишь подчеркивал невысокие потолки их дома. До сих пор она считала, что польза ее уроков музыки в том, что только музыка может привести в движение человеческую душу, но теперь она с опозданием осознала, что музыке это не под силу. Когда она раскрывала ноты и начинала играть, в ее ушах звучали только мелодии, которые прежде она слышала от Бедри и позднее от другого преподавателя, который, увы, не был так же хорош, так что перед этой безжалостной игрой воображения и памяти она безнадежно опускала крышку.
Маджиде, в отличие от своих подруг, не считала, что музыка – это лишь средство найти мужа побогаче. Она не думала, что после свадьбы музыку можно отбросить в сторону, как ненужное девичье платье; она относилась к музыке как к смыслу жизни; для нее это был друг, который всегда рядом.
Жаркие летние дни девушка проводила, лежа на тахте в полумраке гостиной, погруженная в бесконечные мечтания, а также участвовала в прогулках по садам и виноградникам, которые мать возделывала вместе с соседками, и играх, которые ее мать устраивала там вместе со своими сумасбродными приятельницами. Все эти развлечения не помогали отвлечься, а только усиливали тоску.
В это время произошла очередная случайность, которая придала жизни Маджиде, уставшей от мыслей о том, как жить дальше, совершенно иное направление.
Из Стамбула в Балыкесир приехала тетушка Эмине, которая хотела поразвлечься, а заодно посмотреть, нельзя ли что еще продать из своего наследства, и она совершенно очаровалась своей серьезной и красивой племянницей, так не похожей на ее легкомысленную, избалованную дочь. Узнав, что Маджиде к тому же серьезно занимается музыкой, тетушка Эмине и вовсе всполошилась.
– Будьте уверены, я Маджиде здесь не оставлю! Разве можно здесь пропадать такой девушке? В Стамбуле она будет учиться, повидает мир, а кроме того, вместо того чтобы здесь покрываться ржавчиной, повеселится, погуляет с Семихой.
В ее тоне звучало сострадание к похоронившим себя в Балыкесире родственникам. Тетушка сумела задеть самое больное место родителей Маджиде:
– Вы в своем Балыкесире никакого мужа для своей дочери, кроме мелкого чиновника, не найдете! Она достойна доктора или инженера! Пусть только поживет у нас несколько лет, тогда увидите!
Маджиде восхищалась своей веселой, милой тетушкой. Всякий раз, когда та появлялась у них в доме, Эмине крепко целовала племянницу в обе щеки и принималась рассказывать ей о Стамбуле и о том, каких подруг Меджиде заведет себе там.
– А в консерваторию я смогу там ходить? – как-то раз спросила Маджиде.
– О чем речь! Конечно! Будешь ходить, куда захочешь.
После этих слов тетушка Эмине стала казаться Маджиде эдаким толстым пожилым ангелом, сошедшим с небес, дабы спасти ее.
Родители Маджиде особо не противились. Приближалась осень, и у них оставалось немного денег от продажи урожая. Они сшили для Маджиде несколько «стамбульских» платьев. Дали ей и тетушке с собой бидон зеленых оливок, несколько бидонов меду, два небольших ковра, посадили свою дочь в поезд и отправили в Стамбул. Больше им не суждено было увидеться.
На станции плакала только мать. Отец только теребил свою рубашку без ворота и, когда поезд тронулся, лишь насупил брови и слегка кивнул.
VI
Нихат с Омером медленно брели от Галатского моста к проспекту Бабыали. Они решили пойти к Беязиду, по дороге разглядывая витрины книжных лавок. Молча поднимались они вверх по улице мимо витрин с дешевыми книгами в безвкусных обложках с одной стороны и артишоками в оливковом масле с кусками жареной бараньей печенки с другой. Когда они проходили мимо почты, Омеру вздумалось было побороть свою лень и зайти на работу. Но время приближалось к обеденному перерыву, его появление выглядело бы смешно. Он зашагал дальше, испытывая беспричинное беспокойство, которое приписал ощущению невыполненного долга. За пятнадцать курушей он купил один из журналов, разложенных у торговца рядом с мраморной колонкой для питьевой воды, и, увидев на обложке одно из имен, смял и сунул журнал в карман.
Нихат был все время задумчив. Денег на обед у него не хватало, но он даже не заметил, что Омер выложил целых пятнадцать курушей за какой-то журнал. Перед полуднем проспект всегда был совершенно безлюден, и они не встретили ни одного знакомого. Дойдя до Беязида, они сели за столик в одной из кофеен у мечети. Здесь тоже было пусто. В дальнем углу два несчастных студента факультета искусств и литературы монотонно зубрили лекции. Чуть поодаль у входа со стороны проспекта сидел бородатый софта[12] и курил кальян, хитро посматривая вокруг.
Некоторое время приятели молча глазели на проносившиеся по площади трамваи, на прохожих и нищих. Наконец Нихат, будто очнувшись ото сна, поднял голову.
– Срочно нужны деньги, дружок!
– Понятное дело. Сейчас народ пойдет обедать, кого-нибудь из знакомых встретим, попросим. Одной лиры нам хватит?
Нихат сердито и презрительно посмотрел на приятеля.
– Да я не о таких деньгах говорю… А о нормальных деньгах… Нужны деньги для дела.
– Ты что, коммерсантом стать решил?
– Хватит трепаться, друг мой. Тебе этого не понять, так же как я не в состоянии понять твои философские рассуждения. Однако до конца своих дней оставаться студентом философского факультета я не намерен.
– А ты не оставайся студентом, а поскорее оканчивай университет!
– Ну и что из того, что я окончу университет? Неужели этого мне достаточно?
Омер слегка посерьезнел.
– И правда, Нихат! Ты в последнее время стал какой-то загадочный. Говоришь странные вещи, дружишь со странными типами, которых я никогда не видел. Особенно мне не понравился этот, который похож на татарина, – его на днях я видел с тобой. Кто эти люди?
Нихат подозрительно огляделся по сторонам.
– Молчи, болтун! И не суй свой нос в дела, в которых ничего не смыслишь. Говори свои заумные речи и продолжай мечтать. Когда поумнеешь и вернешься к реальности, тогда и поговорим серьезно.
Он помолчал и, словно передумав, добавил:
– Впрочем, на днях я все равно собирался поговорить с тобой. А сейчас могу сказать только одно: нам нужны деньги.
– Вам нужны деньги? А вы – это кто? И сколько вам надо?
– Кто мы – сейчас не спрашивай. Денег нам требуется много, и нужны они нам постоянно.
Омер засмеялся.
– Я заинтригован!
Нихат оборвал его взмахом руки:
– Хватит! Я сказал, что скоро поговорю с тобой. Жди. А пока подумаем о том, где пообедать и как провести вечер.
К двум часам столовая напротив кофейни заполнилась посетителями. Среди них Нихат и Омер заметили нескольких знакомых, но не настолько близких, чтобы можно было попроситься на обед. Наконец, потеряв надежду, они съели по симиту[13] и выпили по чашке кофе.
Шли школьные каникулы, и все кофейни района заполнили учителя, приехавшие со всех концов страны в Стамбул отдохнуть. Эти «летние» клиенты, как их здесь называли, приходили сюда группами по три-четыре человека пообедать и оставались до вечера поболтать или поиграть в нарды, а вечером, определившись с планами, также компаниями по три-четыре человека, отправлялись в какую-нибудь дешевую пивную в Бейоглу. С наступлением темноты в кофейнях оставались только студенты и те из учителей, кто не успел за зиму накопить денег на отпуск и на рестораны.
Омер и Нихат просидели в кофейне до вечера, время от времени пересаживаясь от стола к столу, чтобы укрыться от солнца. Каждый из них погрузился в собственные раздумья. Нихат обдумывал свои планы, полностью погрузившись в свои мечты; мысли Омера перескакивали с одного на другое, ни на чем долго не задерживаясь.
Несколько раз он вынимал из кармана журнал, решив почитать. Но в итоге он читал лишь несколько заголовков, а затем, скрутив журнал, хлопал им по столу и бормотал:
– О господи, какая скучища! Неужели от нее никак не избавиться?
С ним такое случалось часто. Голова вдруг звенела от пустоты, наваливалась тяжесть в груди, что-то сжимало горло, его одолевали неясные, но сильные желания.
– Если бы ты знал, чего хочешь, ты бы не скучал, – сказал Нихат.
Омер умоляюще проговорил:
– Назови мне цель, которой стоило бы добиваться и ради которой можно пожертвовать жизнью, и я сразу устремлюсь к ней…
Нихат засмеялся.
– Вот видишь? Ты сразу чушь несешь! В жизни не стоит просить ни о чем таком, ради чего стоило бы умереть. Стоит просить только о том, ради чего стоит жить. Больше того, продолжу эту мысль – о том, ради чего именно мы обязаны жить! В твоей башке так прочно засела пустота, что теперь ты и сам ищешь, как бы пожертвовать жизнью и самому оказаться в этой пустоте! Жить, жить лучше всех, подняться надо всеми людьми, повелевать ими, быть сильным, даже немного жестоким! Чего еще можно просить у жизни? Посвяти этой цели жизнь – и, увидишь, ты сразу воспрянешь духом.
Бледное лицо Нихата внезапно раскраснелось, его бегающие глаза засверкали. Но Омер остался таким же вялым и отозвался:
– Ты в самом деле начал меняться, Нихат! А может, я прежде не знал тебя. Вон какие страсти скрыты в тебе! Ты ведь очень эгоистичен, правда? Возможно, ты и прав… Но, признаться, мне бы не хотелось, чтобы твои слова оказались правдой…
Официант в белом переднике повернул выключатель. Лампочки, подвешенные на проволоке между деревьями, вспыхнули желтым светом. В это время в кофейню, громко споря, вошли четверо мужчин и сели за соседний столик.
Нихат обернулся к ним:
– Откуда пожаловали, коллеги?
– Вы тоже здесь? – вопросом на вопрос ответил один из пришедших. Он был невысокого роста, в глаза бросались его нервные движения. Он тут же добавил: – Какой же глупый вопрос я задал, не так ли? Видно же, что вы – здесь. Бессмыслица, свойственная турецкому языку. Больше ни на одном другом языке мира такой вопрос задать невозможно. А в турецком есть эта возможность – проговорить несколько часов кряду и ничего при этом не сказать!
Второй из этой же компании, тоже небольшого роста, сощурил глаза, о цвете которых было невозможно догадаться за толстыми стеклами очков:
– А ты не замечаешь, что твой вопрос лишний раз демонстрирует эту особенность нашего языка?
Омер поморщился:
– Аллах, опять шуточки пошли. Мне кажется, что когда у меня в голове совершенно нет мыслей, это гораздо лучше, чем бесконечные разглагольствования.
– Ты только подумай, – тихонько проговорил Нихат, – а ведь оба они – знаменитости! И в словах этого выдающегося турецкого поэта, и в словах столь же выдающегося турецкого колумниста несомненно заключена святая истина о турецком языке. – Приятели прыснули со смеху.
Оба вновь пришедших упорно отказывались продолжать разговор. Нихат подошел к одному из них, и они о чем-то тихонько переговорили. Тот утвердительно кивнул. Нихат повернулся к Омеру:
– Все решили. По крайней мере, сегодня вечером мы устроены.
Омер глубоко вздохнул.
Нихат увидел, что новость не очень обрадовала его.
– Что случилось? Ты недоволен? – удивился Нихат.
– А ты сам не замечаешь, какие мы с тобой жалкие?
– С чего вдруг? Ты говоришь так, будто ни разу в жизни не пил ракы за чужой счет.
– Замолчи, ради Аллаха! Вся моя жизнь… Вся наша жизнь… одна сплошная низость…
– Можно подумать, ты – воплощение добродетели!
– Нет… Нет… Я решил с сегодняшнего дня начать новую жизнь. Это будет совершенно новая жизнь, не такая нелепая и бессмысленная, как прежде, а гораздо более осмысленная. Возможно, если поискать, то найдется для меня такая жизнь. Но во мне сидит такой дьявол… Он подстрекает меня на поступки, которые по доброй воле я бы ни за что не совершал. Бесполезно пытаться избавиться от него… Не только я один – мы все игрушки в руках этого дьявола. Я даже уверен, что твои планы покорения мира – тоже его рук дело.
Нихат не выдержал и перебил Омера:
– Ради Аллаха, прекрати ты, наконец, свои мистические речи! Я понимаю, что тебя тревожит. Но если я скажу тебе об этом в лицо, ты рассердишься!
– Ну, давай, скажи!
– Жениться тебе нужно!
Омер брезгливо отмахнулся:
– Дурак!
А затем вытащил из кармана журнал и принялся его снова читать и просматривать.
Нихат обернулся к человечку в толстых очках, с которым недавно разговаривал.
– Ваша сегодняшняя статья, Исмет Шериф-бей, просто превосходна. У нас нет другого колумниста, который обладал бы такой железной логикой и так умело разил врагов своим острым пером. Каждую неделю мы ждем вашу статью с большим нетерпением…
Омер оторвался от журнала.
– Ты читаешь ему письма благодарных читателей?
– Разве я не правду говорю?
– Правду. Только добавь, пожалуйста, что во главе противников, которых разоблачает наш друг Исмет Шериф, стоит он сам. Судя по тому, что в каждой новой статье он с удвоенной энергией утверждает противоположное тому, что писал месяц назад, первый уничтоженный им враг – все тот же Исмет Шериф. Не так ли, Эмин Кямиль?
Великий турецкий поэт, только что доказывавший способность турецкого языка выражать бессмыслицу, обычно не упускал возможности поспорить с Исметом Шерифом.
– Совершенно верно, – тут же сказал он.
– Те, кто не понимают, что жизнь – это лишь цепь изменений и что каждое изменение есть шаг вперед по пути прогресса, – те просто мракобесы…
Еще в детстве, во время Балканской войны, Исмета Шерифа сильно ранило в шею осколком снаряда при эвакуации из Эдирне, где он находился вместе с отцом, командиром роты. С тех пор голова Исмета Шерифа всегда клонилась к левому плечу, и ему стоило больших усилий держать ее прямо. Это событие стало самым важным событием в его жизни. Оно сыграло не меньшую роль в формировании его характера, чем личность его отца, который пал смертью храбрых в Эдирне. Впоследствии ранение стало главной темой главного и самого толстого романа Исмета Шерифа.
Сейчас, не считая нужным что-либо добавить, Исмет Шериф лишь молча теребил шрам на шее.
Он вел еженедельную колонку в крупной стамбульской газете, в которой касался самых злободневных проблем – в политической, экономической и литературной жизни в стране и за границей, и каждую статью непременно завершал либо убедительными советами по разрешению ситуации, либо выносил суровые приговоры.
Поэт Эмин Кямиль почти всюду сопровождал этого великого колумниста и мыслителя, вместе с ним участвовал в попойках и, хотя полностью разделял его убеждения, считал своей обязанностью опровергать каждую его мысль, каждое его слово. Поэт был бездельником с богатым наследством. Большую часть своей жизни провел в имении отца в окрестностях Ешилькёя[14], развлекаясь охотой и кормлением собак, а также несколько раз в год выдавал глубокомысленные стишки на радость любителям поэзии.
Других занятий у него не было, и вскоре Эмин Кямиль увлекся буддизмом и, обрившись наголо, бродил босиком по своему поместью, мечтая о погружении в нирвану, потом наскучило и это, и на несколько месяцев он стал ярым приверженцем Лао-цзы. Он бродил по дому с французскими книжками по китайской философии и пытался в соответствии с ними толковать жизнь и людские характеры. Хотя он был сообразительным и отзывчивым человеком, товарищи не принимали его всерьез, что весьма огорчало Эмина Кямиля, и он отвечал окружающим презрительным высокомерием.
Нихат и Омер одно время издавали молодежный журнал и познакомились с этими деятелями, заказав обоим стихи и передовицы. Хотя журнал давно прогорел и его место заняли другие недолговечные журнальчики, приятельские отношения с Исметом и Эмином не прекратились. Правда, Омер сразу бросил все издательские дела, а Нихат потом еще продолжал работу с несколькими журнальчиками. Время от времени он публиковал статьи в той же газете, где печатался Исмет Шериф, под рубрикой «Молодежное движение». Из этих статей нелегко было понять, что их автор имеет в виду, но они создавали впечатление, что он нападает на врага, назвать которого нельзя открыто, и вызывали горячие споры среди молодежи определенного толка.