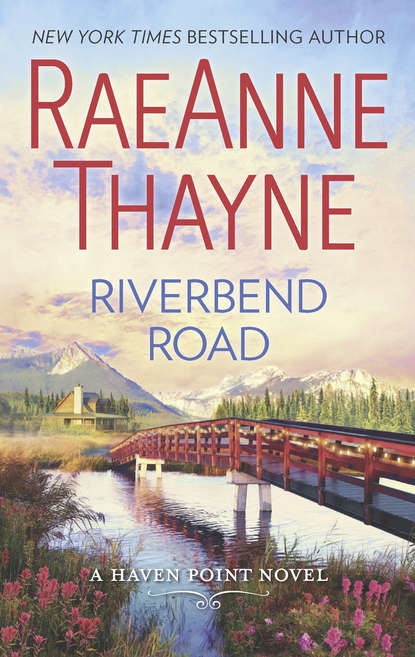- -
- 100%
- +
Исмета Шерифа и Эмина Кямиля повсюду сопровождали некие молодые люди, это были недоучившиеся студенты, вступившие на стезю журналистики. Поскольку никто из них не владел блестяще турецким литературным языком, да и познаниями особыми ни в чем они не обладали, то ничего, кроме новостных сводок, им и не поручали. В присутствии «мастеров» они сидели, не подавая голоса, и лишь восхищенно смеялись в ответ на любую из их бесконечных острот.
Неожиданно Исмет Шериф вскочил с места и скомандовал:
– Пойдем!
Властное выражение, постоянно присущее его лицу, резко контрастировало с общим жалким видом инвалида с прижатой к левому плечу шеей.
Все поднялись. Омер выложил оплату за чай на оцинкованный стол. Нихат сделал то же самое. Остальные после недолгого препирательства решили отправиться в пивную, недавно обнаруженную ими неподалеку, рядом с кондитерской «Коска». Они зашагали туда все вместе.
Если заглянуть в помещение пивной с улицы, то оно напоминало низкую, с давящим потолком лавку лудильщика, где сидели только несколько пожилых давно не бритых пьяниц, два-три ремесленника, музыкант в черных очках и с удом[15] в руках и мальчишка лет десяти-двенадцати в башмаках на босу ногу. Музыкант и мальчишка-певец отдыхали. Омер сразу же обратил внимание на бледное, исхудалое лицо мальчика. В его лице сочетались детская наивность, от которой он еще не успел избавиться, виноватое выражение, к которому он еще не привык, и плутоватость, которой он еще толком не обучился. Его большие карие глаза весело разглядывали все вокруг, он изо всех сил пытался придать себе несчастный и больной вид, но время от времени, забывшись, принимался с любопытством рассматривать музыканта с удом или же засматривался на закуски, которые армянин – хозяин пивной разносил гостям, затем грустно вздыхал и на сей раз принимал действительно очень печальный вид, от которого сжималось сердце.
Компания еле уместилась за одним маленьким столиком. Хозяин тотчас принес на подносе графин ракы, слоеные пирожки, фасоль с луком, жареных карасей. Заиграл саз, и на фоне саза Эмин Кямиль пустился в рассуждения по поводу мальчика-певца, а Исмет Шериф принялся в газетном стиле обличать национальные язвы; газетные прихлебалы продолжали молчать.
Нихат ни с того ни с сего стал рассказывать об утреннем происшествии на корабле. Омер со скучающим видом вытащил из кармана свой журнал и принялся читать. Рассказ Нихата вызвал у всех приступ хохота, как вдруг Омер внезапно, сверкнув глазами, хлопнул журналом по столу:
– Послушайте! Послушайте! Здесь напечатано стихотворение… Как раз о том же самом, что и меня сводит с ума. Вы меня совершенно не понимаете… Но я уверен – тот, кто написал эти стихи, он бы понял меня!
Омер схватил журнал со стола и принялся читать. Это было стихотворение одного из известных поэтов, и называлось оно «Дьявол».
Читал Омер дрожащим голосом, как человек, который желает излить душу, то и дело бросая взгляды на слушателей. В стихотворении говорилось о дьяволе, который сначала ловит жертву, преследуя ее, будто тень, нашептывает тихонько ей вслед, потом холодными как лед руками стискивает затылок и наконец заключает в свои железные объятия; о силе, перед которой люди – испуганные и беспомощные дети. Когда Омер кончил читать, по лбу его текли капли пота.
– Послушайте эти строки, – сказал он и перечитал несколько строк из середины стихотворения:
Знаком мне с детских лет он,Во снах ко мне являясь.Шагает за спиной он,Меня не оставляя……И страха целый мирМеня не покидает…
На последних словах Омер перешел почти на крик:
– И страха целый мир меня не покидает! Это не я боюсь! Это он боится! А я хотел быть совершенно другим, если б не было этого страха, если б я не боялся дьявола… Если бы я не боялся дьявола, который не даст мне сделать ничего хорошего, ничего настоящего…
Эмин Кямиль покачал головой и нервно заморгал:
– Чего ты так злишься? На что жалуешься? Откуда ты знаешь, что этот дьявол – не есть самое ценное в твоей душе? Такие люди, как ты, воспринимают мир только пятью чувствами и поэтому не могут забыть о вечном страхе. Стоит добраться до первопричин и закономерностей жизни, как увидишь, что главные наши слабости вне нас. Ослепляют нас семь цветов, оглушают нас звуки, зубы сыпятся от пищи, ну а суета поначалу зажигает, а потом заставляет потухнуть сердце. Мудрые люди придают значение не внешнему, а внутреннему.
Нихат не сдержался:
– Сами вы, мастер, не похожи на человека, пренебрегающего благами внешнего мира. Несмотря на мудрость Лао-цзы, вы вкушаете всю остроту жизни!
Эмин Кямиль был готов что-то возразить. Однако Исмет Шериф опередил его. Он обернулся к Нихату и сказал:
– Ничего примечательного. Этот дьявол живет в каждом из нас. Наша творческая натура – тоже его детище. Именно он вытаскивает нас из обывательщины, именно он помогает нам познать, что мы – люди, а не машины. Эмин Кямиль говорит ерунду. Внешнее неотделимо от внутреннего. Просто это две стороны одной и той же идеи…
Омер уже думал о другом и не слушал. Нихат поднес рюмку ко рту и сказал:
– Однако ваша точка зрения не очень отличается от взглядов Эмина Кямиля. А больше всего вас объединяет стремление относиться ко всему серьезно и тотчас же вывести из всего свою философию… Но нашего Омера вы так и не поняли. Любая мелочь может привести его в невероятное возбуждение. Он считает, что видит целый мир под маленьким листиком бумаги, но на самом деле он живет, не видя этого мира. Он убежден, что находится во вселенной, сущность которой непознаваема.
Затем, обернувшись к Омеру, он добавил:
– Когда ты вернешься к жизни, к реальности, к осознанию своих интересов, у тебя в душе не останется ни дьявола, ни пророка. Узнай, наконец, как просто устроено твое тело и твой дух, определи свои желания и решительно иди к ним. Тогда ты все увидишь!
Омер отрицательно покачал головой:
– Никого из вас я не понимаю. И не знаю, что вам ответить. Но я уверен, что не ошибаюсь. Существует сила, которая управляет нами вопреки нашей воле. Это очевидно. На самом деле нам нужно быть другими, нужно быть гораздо лучше… В этом я абсолютно убежден. Но как соединить одно с другим, не знаю.
Нихат усмехнулся:
– И не узнаешь до конца своих дней.
Пивная опустела. Между Исметом Шерифом, у которого после третьей рюмки голова закачалась на кривой шее, и Эмином Кямилем, нервные движения которого участились, вдруг вспыхнул жаркий спор. Было непонятно – согласны они друг с другом или нет. Говорили оба многозначительными словами и запутанными фразами, смолкая время от времени, чтобы убедиться в произведенном впечатлении, и снова принимались говорить разом, не слушая друг друга. Омер захотел выяснить, о чем спор, и заметил высокие слова, которые то и дело доносились до его ушей: познание, мышление, необходимость, система, сознание… Готов голову дать на отсечение… Разрыв шаблона… Идеологические мыслители… Политические зазывалы… Спекулянты идеями… Высокопарные выражения перемежались с жаргонными словечками.
– О господи, как же эти люди вечно повторяют себя, – пробормотал Омер.
– Что ты сказал? – спросил Нихат.
Омер привык делиться со своим приятелем каждой мыслью, посетившей его голову. Однако сейчас Омер впервые нашел это лишним и, покачав головой, ответил:
– Ничего… просто так.
Шестиугольные деревянные часы на противоположной стене показывали одиннадцать.
– Я сейчас приду, – внезапно сказал Омер и выскочил на улицу.
Он быстро дошагал до квартала Лялели, а там свернул направо и по разбитой, испещренной пустотами пожаров улочке побрел мимо отдельных уцелевших домов к кварталу Шехзадебаши.
В пивной остался Нихат. Обернувшись к одному из репортеров, он взволнованно спросил:
– Послушай, приятель, сегодня вечером ведь платишь ты?
Тот, пытаясь приподнять отяжелевшие веки, утвердительно кивнул. Нихат облегченно вздохнул и пробормотал:
– И куда убежал наш сумасшедший юноша?
VII
Когда Омер постучал в дом тетушки Эмине, было уже около полуночи. Все окна верхнего этажа, выходящие на улицу, были темны. Только в широком окне над дверью брезжил слабый свет. «Наверное, в гостиной кто-нибудь еще сидит!» – подумал молодой человек.
Ему не казалось неудобным прийти в гости в столь неурочный час к родственникам, которых он не навещал более года. Еще с давних, точнее лицейских, времен он привык приходить сюда всякий раз, когда в школьное общежитие возвращаться было поздно, пожилая служанка Фатьма стелила ему постель в одной из пустых комнат, ему все напоминало о детстве, и он засыпал беспечным сном, как тогда, а утром уходил, обычно никем не замеченный.
На этот раз он решил зайти к тетушке неожиданно. Разговоры в пивной в какой-то момент показались Омеру до невозможного пустыми и бессодержательными. Ему захотелось бежать из мира этого глупого тщеславия в мир простых, ясных побуждений и слов. Он знал, что в доме своей тетушки Эмине едва ли найдет то, что ищет. Однако даже самому себе ему не хотелось признаваться в том, что именно так неудержимо влекло его сюда.
Как всегда, дверь открыла Фатьма. Уже три десятка лет она, эта старая дева с улыбчивыми глазами, в одежде, пропахшей кухней, гнула спину в доме Эмине, но никогда ни на что не жаловалась. Увидев Омера, она вся так и засветилась радостью, впрочем, как всегда.
– Ах, заходите, заходите, кючюк-бей[16]. Еще никто не лег. И не спрашивайте! Сегодня вечером все плохо. Но проходи, пусть тебе сами расскажут.
Омер поднялся по нескольким ступеням в гостиную, где увидел Галиба-эфенди и тетушку Эмине, сидевших на обшитом коленкором диване. Галиб-бей, казалось, дремал, но, завидев гостя, поднялся ему навстречу и выдавил из себя улыбку. Тетушка сидела в белом платке, и глаза у нее были красными.
– Заходи, заходи, дорогой мой Омер… Не спрашивай, что у нас произошло, – простонала она.
Омер тотчас обо всем догадался.
– Сказали ей?
– Сказали, сказали… Да если бы и не сказали, она все равно почувствовала. Сегодня вечером обняла меня и говорит: «Я уже совсем взрослая девочка, что вы от меня скрываете? Меня очень огорчает неизвестность. Ради бога, скажите, что стряслось?» Поклялась держать себя в руках. Я и проболталась! Посмотрел бы ты на девушку, обещавшую держать себя в руках! Сердце разорвалось бы! Зарыдала, упала на миндер. Потом, не слушая наших утешений, убежала наверх, заперлась у себя. Погасила свет. А вскоре совсем затихла.
Омер с тревогой спросил:
– А вы не заходили к ней, не посмотрели, как она?
– Как не ходили – ходили, конечно! Но я ж сказала, дверь она заперла. Ох, как же я боюсь! Боюсь, руки на себя наложит! Стучалась я к ней. «Оставьте меня, тетушка, немного успокоюсь и посплю», – сказала мне она. Странная она девушка. В горькие минуты человек ищет, с кем бы горем поделиться, а она от людей прячется.
Тетушка стерла вновь навернувшиеся на глаза слезы.
– Я и то вся разнервничалась. С тех пор все голова трещит… Как-никак все-таки отец умер. Но что можно поделать!
– Дела покойного в последнее время шли совсем плохо, – пробормотал Галиб-эфенди.
Тетушка Эмине бросила на него гневный взгляд: это ж надо, даже в такой трагический момент говорить о каких-то там «делах»!
В эту минуту Омер почувствовал, что ему искренне жаль девушку. Он вспомнил о своем отце, который умер четыре года назад. Омер тогда учился в одном из закрытых лицеев Стамбула, и это помешало ему знать отца. Он вспоминал о нем лишь раз в месяц, когда получал деньги или собирался домой на каникулы, но, несмотря на это, известие о смерти отца его сильно потрясло. Он внезапно ощутил, будто не хватает какой-то привычной вещи, словно бы сидел спокойно в комнате, и вдруг одна из стен исчезла, он ощутил пустоту, почувствовав себя беззащитным, словно калека, у которого вчера были целы руки и ноги, не может поверить, что сегодня их уже нет.
– Хоть бы ей удалось доучиться, – задумчиво произнес Омер.
Дядя Галиб моментально очнулся от дремоты и выпалил:
– Посмотрим, позволит ли ей состояние их дел продолжить учебу!
Тетушка вновь смерила супруга гневным взглядом и в очередной раз подумала, что в Галибе не осталось и следа от былой беспечности и приличествующей благородному человеку щедрости; под воздействием времени эта щедрость уступила место мелочному скряжничеству. Если бы не жена, он бы давно начал отказывать в куске хлеба гостям и землякам. Но Эмине-ханым все свои силы, всю свою волю тратила на то, чтобы отложить наступление этого часа. «Пусть я кровью буду харкать, но скажу, что кизил жую. Лучше всем домом поститься, чем краснеть перед гостями за угощение», – любила повторять Эмине. Однако поститься всем домом пока не приходилось.
От выпитой ракы Омер ощутил странную тяжесть во всем теле. Он несколько раз зевнул. Заметив это, стоявшая в углу на коленях Фатьма моментально вскочила.
– Ваша постель готова, кючюк-бей.
– Пошел я тогда спать, – сказал, потянувшись, Омер и встал.
– Смотри только не уходи утром, не повидавшись с нами… На сей раз я обижусь. Да пошлет Аллах нам всем спокойную ночь, – с укоризной в голосе проговорила тетушка Эмине.
По скрипучей лестнице поднялся Омер в маленькую комнатку, выступавшую над улицей[17]. Широкая лежанка занимала почти всю комнату. Омер стал нащупывать выключатель, чтобы включить свет, но потом передумал. Уличный фонарь, светивший прямо ему в окно, давал достаточно много света.
Омер сел на стул у двери. У него заболела голова. На душе отчего-то было тоскливо. Он огляделся по сторонам.
Почти ничего не изменилось в этой комнатке, которую Омер помнил с детства. Дешевая, но довольно необычная обстановка состояла из дивана с просевшими пружинами и четырех скрипучих табуретов, все стояло на прежних местах. На полу лежал все тот же красивый, но уже совсем ветхий ушакский ковер[18], на тахте у окна лежали все те же батистовые покрывала и подушки, набитые травой; на стенах под стеклом и в рамках висели те же надписи из Священного Корана, а в углу все так же стоял столик с патефоном и набором модных пластинок в потрепанных конвертах.
Среди этих беспорядочных вещей Омеру вдруг сделалось тоскливо. Затем он подумал сначала о тетушке Эмине, которая, несмотря на печаль и слезы, не забыла подвести сурьмой глаза и нарумянить щеки, а потом о своей двоюродной сестре толстушке Семихе, которая, должно быть, давно беспечно спала у себя в комнате. Омер подумал, как комнаты этого дома подходят женщинам и хозяйкам этого дома. Они ведь тоже не разобрались, в каком стиле они живут. Если заглянуть к ним в душу, то и там можно обнаружить в самом близком соседстве басмалу[19] из Корана и бойкие фокстроты певицы Сони.
Омер встал, подошел к окну и распахнул его. Стояла прохладная весенняя ночь. Он понадеялся, что от холодного воздуха, ворвавшегося в комнату, головная боль утихнет.
По красноватому от городских огней небу бежали редкие облака, с соседних улиц долетал шум трамваев. Напротив, как всегда, возвышалась старая стена, долгие годы окружавшая сад большого старинного особняка. Это поразило Омера. В его жизни все менялось так быстро, что он приходил в изумление, когда замечал, что какая-нибудь вещь долгое время остается неизменной.
Мысли Омера безостановочно роились в голове так же, как редкие облака, вечно бежавшие по небу, такие же бесформенные и неуловимые. Однако мысли, как эти весенние облака, сгустились, приняв форму смутных воспоминаний, неопределенных надежд и стремлений.
В этот момент он поймал себя на том, что все это время разговаривал вслух, но, как ни старался, не мог припомнить, о чем. Где-то в глубине его мозга действовал некий нервный центр, неподвластный его воле, но стоило попытаться сосредоточиться на том, что происходило здесь, как мысль тотчас терялась. Омер прислонился головой к раме. Глаза его были полузакрыты. Ветви деревьев, свешиваясь над стеной сада, мягко покачивались в темноте ночи, совсем как клубы низко стелющегося печного дыма. Вдруг Омеру показалось, что не стало ни шума трамваев, ни электрического света, ни ночной мглы вокруг, а кругом зелено и ясно. Он идет по узкой дороге, обсаженной тополями, вдоль правой обочины пенится арык шириной в шаг. Слева по склону тянутся бесконечные сады, виноградники, окруженные изгородью из кустов ежевики и шиповника. Стволы деревьев похожи на присевших на корточки людей, а молодые черешенки усыпаны пунцовыми ягодами. Через некоторое время дорога пошла под откос. Тополя и кустарник подступили почти вплотную к Омеру, как две высокие зеленые стены. И вдруг он очутился на широкой поляне. Кроны огромных вязов и ореховых деревьев закрывают небо, и свет, просачиваясь сквозь листву, украшает пестрой мозаикой поверхность небольшого водоема на краю поляны. Вот, оказывается, откуда вода в придорожном арыке. Омер направился к водоему. На другом его берегу высились замшелые, покрытые водорослями скалы. Не слышно ничего, кроме шелеста листьев и сладкого шепота водяных струек: то ключи пробиваются сквозь песчаное дно.
Пронзительный скрежет трамвайных колес заставил Омера подскочить. И тут же его охватило мучительное любопытство, где и когда он видел эту картину: дорогу, всю в зелени, воду и замшелые скалы? Он изо всех сил напрягал память. Он пытался вспомнить те места, где гулял еще в детстве, все когда-либо запомнившиеся ему красивые виды. Но только что увиденное им место он вспомнить никак не мог. Где же это было? Он перебрал все, вплоть до лесов Дурсун-бея и поросших можжевельником берегов Каздага с его ручейками, припомнил все места, мимо которых когда-либо проходил или проезжал. Был ли он один на той лесной дороге или нет? Этого он тоже не мог вспомнить. Он напрягал мозг так, что казалось, он сейчас взорвется от напряжения. Картина, которая только что привиделась ему, не могла быть причудой воображения. Он точно знал, что когда-то уже видел все это наяву. Но когда? Может быть, это все ему однажды приснилось? Нет, то был не сон. Он наяву шел по той дороге, видел и виноград, и черешни. В нем крепло неотвратимое желание вновь увидеть ту картину, но он силился вспомнить, когда и где это было.
Эта неопределенность утомила его. Он вновь обратил взгляд на комнату. С ним часто случалось подобное: читает какую-нибудь книгу, и вдруг покажется ему, что эти самые строки он уже читал когда-то, а вот где – вспомнить не может. Или неожиданно во время разговора придет ему в голову, что он уже обсуждал то же самое с этим же самым человеком, и, забыв о собеседнике, он принимался вспоминать, где и когда это было. Поначалу он пытался объяснить все сновидениями. Словно таинственная сила заранее приоткрывала перед ним будущее. Потом эта мысль показалась ему смешной. Но очевидно было и то, что некоторые слова, картины и события отчего-то казались хорошо знакомыми. Он был твердо уверен, что уже слышал, видел, делал это, но не мог определить когда.
Омер устало опустил голову на травяную подушку в батистовой наволочке. В доме все было тихо. Он закрыл глаза и мысленно прошелся по всем комнатам.
Фатьма уже, наверное, постелив себе на линолеумном полу в зале, забылась чутким, как всегда, сном. Одна из ее ног, с растрескавшейся на пятке кожей, высунулась из-под одеяла. Ее большие, огрубевшие от тяжелой работы руки сложены на маленькой, увядшей груди, которой никогда не касалась мужская ладонь. Черные волосы выбились из-под грязного платка и разметались по подушке. Грудь мерно колышется; в отвыкшей от мыслей голове проносятся образы отца с матерью, которых Фатьма не видела с семи лет. Сны для ее головы – единственная возможность не потерять способность мыслить.
Представлять себе дядю Галиба и тетушку Эмине, спавших на первом этаже в комнате, окно которой выходило в сад, было не очень приятно. Продавившие матрац две огромных жирных туши лежали спиной друг к другу. Белая, расшитая спереди сорочка дяди Галиба сбилась на животе, одна из штанин его бумазейных с перламутровыми пуговицами кальсон задралась выше колена. У тетушки Эмине в жирных складках шеи поблескивают капельки пота, в углах глаз сурьма смешалась с комочками слизи. Оба видят плохие сны. Тяжелый храп дяди Галиба смешивается с легким присвистом, вылетающим не то из носа, не то изо рта его супруги.
Семиха спит на втором этаже, окна ее комнаты тоже выходят в сад. У нее молодое, тоже полное тело. Каштановые прямые волосы разметались по вышитой подушке. Одну руку она положила под щеку, другую на грудь. Белоснежные пухлые ноги плотно завернуты в батистовые простыни. Ее беззаботной головенке, наверное, виделись сны о муже с автомобилем, шелковых платьях и завивке волос.
Ну а в комнате по соседству с той, где находится он?
Омер не хотел признаться себе, что все это мысленное путешествие по дому он предпринял только ради того, чтобы попасть в эту комнату. Сейчас он осознал, что именно эта комната является причиной его позднего появления в доме у тетушки – прямиком из пивной.
Все чувства, пережитые утром на пароходе, когда он впервые увидел девушку, вновь охватили его.
– Дурак Нихат… Еще немного – и он изменит меня, – пробормотал он.
До сих пор Омер считал своего рода доблестью высказывать вслух все, что было у него в голове и на сердце. Это казалось ему выражением уверенности в себе.
И на сей раз он не видел никаких причин вести себя по-другому. «Как ее зовут?.. Маджиде, да, Маджиде. Не самое красивое имя. Наверное, ее отец услышал, что так зовут дочку какого-нибудь чиновника, и решил тоже назвать дочь этим именем… Но независимо от того, нравится или не нравится мне ее имя, я непременно скажу ей, что влюбился без памяти…
Он постарался вспомнить лицо девушки. Это ему никак не удавалось. Он только увидел ее как бы издали, когда она удалялась от него стремительной походкой, чтобы сесть на трамвай, покачивающиеся завитки волос между худыми плечами над необычайно красивой, тонкой шеей. Какого цвета были ее глаза? Он точно помнил, что у нее красивый тон кожи и волевой подбородок. А вот какой формы губы или цвет глаз – этого он не помнил.
– Какое это имеет значение? – пробормотал Омер. – Главное, я за всю жизнь не встречал подобную ей. Завтра, завтра…
Тут ему стало стыдно оттого, что он забыл, какое горе постигло Маджиде, и подумал, что неизвестно, в каком состоянии сейчас девушка.
Может быть, она разделась и легла в постель. А может, сидит, одетая, съежившись, в углу комнаты. Скорее всего, она сейчас не спит. Может, следит за тем же самым бегущим по небу облаком, что и он. Кто знает, как сейчас у нее в груди сжимается ее сердце?!
Остаться совершенно одинокой в восемнадцать лет, вдали от дома, в доме совершенно чуждых ей по духу родственников и пытаться совладать с собой перед лицом обрушившейся на нее два часа назад беды. Омер знал, как глупеют в такие минуты люди, стремясь поделиться с кем-нибудь своим горем.
«Завтра постараюсь ее утешить», – подумал он, но тут же устыдился пошлости собственных мыслей и сморщился.
Он принялся сражаться со своими мыслями, которые создавали одну фантазию за другой: он изливает душу перед девушкой, а она ласково и нежно отвечает ему. Омер знал по опыту, что события, мысленно пережитые им, пригрезившиеся в мечтах, никогда не осуществляются в реальности. Причина этого, как он считал, в том, что судьба неблагосклонна к нему, а не потому что желания его несбыточны. Поэтому теперь он решил ни о чем не мечтать. Он был уверен, что если сейчас вообразит, будто девушка ответила ему благосклонностью, то завтра она наверняка ему откажет. А на сей раз, вопреки обыкновению, важнее для него были не иллюзии, а реальность и то отношение, которое девушка проявит к нему завтра. Дабы обмануть судьбу, он пустился на хитрость: стал уверять себя, что все будет плохо. Мозг, уставший от дневной сумятицы и будучи все еще под действием винных паров, постепенно затуманился. Омер заснул у открытого окна, склонив голову на набитую травой подушку.
VIII
Омер проснулся, когда еще не рассвело. Только начала белеть тонкая полоска света за деревьями сада в особняке через дорогу. Омер потянулся. Слегка ломило шею, ведь он спал в неудобной позе. Он был молод, и ночная прохлада не повредила ему. Только лицо и руки были неприятно влажными: то ли он обливался потом во сне, то ли воздух был сырым. Омер вытер лицо и руки платком. Тем же платком долго протирал очки. Все еще спали, и ему не хотелось идти в ванную умываться, чтобы никого не тревожить. Ему вообще не хотелось вставать. В саду дома напротив пели какие-то совершенно неизвестные птицы. Еще совсем крошечные листочки шевелились под мягким дуновением ветра и едва слышно шелестели. Было невероятно приятно смотреть, как одна за другой гаснут звезды на небе. Грязные, поросшие мхом черепичные крыши, казалось, оживали в свете рождавшегося дня; прозрачные, как тюлевая завеса, испарения над деревьями и домами таяли и исчезали, вся эта картина вселяла надежду. Она наполнила Омера воодушевлением.