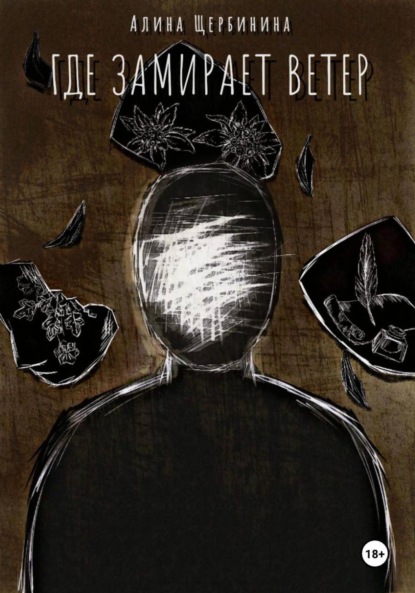- -
- 100%
- +

Есть на лике нашей многострадальной земли места, кои сама природа, – или, быть может, некий раздраженный Демиург, уставший от однообразия рая, – предназначила для скорби. Не просто уединенные долины или угрюмые ущелья, нет. Сии суть гигантские чаши, высеченные из единой глыбы отчаяния, где сам воздух, густой и тяжелый, словно отцеженный сквозь ветошь тысячелетий, становится моральным приговором всему живому. Там горы – не защитники, но безмолвные и грозные тюремщики; солнце – робкий нищий, заглядывающий в окно невероятно скупого замка; а жизнь течет медленнее, подчиняясь не законам роста, но законам угасания.
Там, где ветер вертит снежинки
Бывают на свете места, где сама география становится моральным приговором, а природа, скупая и безжалостная, как раздраженный тиран, предписывает людям единственно возможные законы – законы скорби, воздержания и безропотного отчаяния. Таким местом, без сомнения, была Долина Вечного Инея.
Затерянная в каменных объятиях неприступных гор, она казалась гигантской чашей, выточенной из единой глыбы отчаяния рукой какого-то безумного божества-керамиста. Горы эти, вечные и молчаливые стражи, не защищали долину, но заключали ее в тюрьму, отсекая от мира живых свойством своей немыслимой высоты и постоянной угрозой обвала. Солнечные лучи являлись сюда редкими и робкими гостями, словно нищие, заглядывающие в окно богатого, но невероятно скупого замка, – чтобы на мгновение коснуться вершины скалы и тотчас же ускользнуть, испуганные царящим внизу мраком.
Воздух здесь был густ, тяжел и неподвижен. Казалось, его отцедили сквозь ветошь тысячелетий, пропитанную дымом бесчисленных костров и слезами бессчетных поколений. Он был не просто холодным; он был олицетворением самого Холода – субстанцией, враждебной всякому движению, всякому дыханию, всякой мысли. Он въедался в грубую шерсть одежд, в поры задубевшей кожи, в самые сокровенные извилины мысли, оставляя после себя стойкое послевкусие пепла и горькой покорности судьбе, что слаще любого яда.
Деревня, носившая гордое, но насмешливое имя Каменное Гнездо, цеплялась за крутой склон подобно упрямому пожилому альпинисту, чьи пальцы, истерзанные в кровь о скалистый утес, все же отказываются разжать свою хватку, ибо внизу – лишь бездна и забвение. Дома, слепленные из серого, бесстрастного камня и бурой, вязкой глины, казались не творением человеческих рук, а естественными наростами на теле горы, ее капризными бородавками и морщинами. Их кривые, покосившиеся стены повторяли прихотливые изгибы скал, а низкие, приземистые двери, скривившиеся от вечного ожидания неведомой беды, напоминали беззубые рты стариков, шепчущих неслышные проклятия в лицо надвигающейся вечности.
По утрам, когда молочный, обволакивающий туман, порождение ночных вздохов долины, стелился по немощеным улочкам, деревня превращалась в призрака – бледного, полупрозрачного, готового растаять от первого же прикосновения дневного светила. Но солнце являлось сюда нечасто, и туман мог висеть до самого полудня, а то и дольше, ревниво скрывая от обитателей селения их собственные, и без того бледные тени.
Люди здесь двигались неторопливо, величаво и скорбно, будто каждый шаг давался им ценой неимоверных усилий, словно их ноги были закованы в невидимые кандалы, выкованные изо льда и отчаяния. Женщины с лицами, напоминавшими сморщенные, высохшие от времени осенние яблоки, несли с колодца тяжелые ведра с водой, их согбенные спины были подобны старым, выброшенным на берег корягам, обтесанным ветрами и горем.
Мужчины, молчаливые и угрюмые, как скалы, венчавшие их убогое жилище, работали на скудных, каменистых полях; их руки, покрытые грубой, потрескавшейся кожей, не знали ласки, им была ведома лишь суровая тяжесть мотыги и леденящее прикосновение мертвой земли. Даже дети, эти вечные посланники радости и беззаботности, не знали здесь звонкого смеха – они тихо копошились у подножий домов, а в их глазах, слишком взрослых и понимающих для столь малых лет, не было ни веселья, ни удивления, лишь спокойное, безропотное принятие своего жребия, что страшнее любого детского плача.
В центре деревни, на площади, которую с натяжкой можно было назвать таковой, зиял черным зевом древний колодец. Его каменные стены, почерневшие от времени и сырости, покрылись бархатистым мхом и лишайниками, упорно цеплявшимися за жизнь в этом негостеприимном месте, словно сама Смерть украсила свою прихожую жалкими побегами, дабы насмехаться над понятием жизненной силы. Вода в его глубинах всегда была холодна и имела странный, металлический привкус, будто в нее столетия назад капнули каплю крови забытого божества или великана, и с тех пор вся влага в долине несла в себе память о той давней жертве. Женщины, зачерпывая воду, невольно крестились и бормотали под нос что-то невнятное – то ли обрывки старинных заклинаний, то ли отчаянные молитвы, смысл которых был давно утрачен, оставив после себя лишь суеверный ритуал, пустую скорлупу, из которой улетела птица веры.
На самом краю деревни, там, где мир людей уже почти сходил на нет, уступая место диким скалам и хвойному лесу, чей мрак казался еще гуще и плотнее, чем ночной, стояла кузница. Если бы сама скала, под натиском вековых бурь и морозов, решила однажды породить себе подобие в облике человека, дабы иметь своего представителя среди жалкого рода людского, то этим порождением, без сомнения, стал бы кузнец Гринт. Ибо в его облике было нечто от величественной и грозной неподвижности утеса, внезапно обретшего плоть, кровь и исполинскую силу.
Он был мужчиной, чьи годы уже перешагнули за середину жизненного пути, но время, казалось, отступилось перед его могучей статью, уступив место вечности камня. Широкоплечий, с грудью, подобной кузнечным мехам, что в состоянии раздуть пламя в самом сердце железа, он возвышался над прочими обитателями Каменного Гнезда, как башня над хижинами. Мускулы его, бугристые и перекатывающиеся под грубой кожей рубахи, напоминали не упругие связки атлета, а древние, покрытые мхом валуны, вросшие в склон горы, – их сила была не для подвигов, но для вечного, неспешного противостояния самой тяжести бытия.
Главной летописью его судьбы, зримой и неумолимой, как высеченный на скрижали приговор, было его лицо. Лицо, которое в ином месте сочли бы изуродованным, но здесь, в Долине Вечного Инея, оно казалось лишь еще одной честной гримасой, которую надела на себя сама реальность. Посередине его, от виска и до самого упрямого, квадратного подбородка, тянулся шрам. Не тонкая линия былой раны, нет! – но широкий, багрово-сизый рубец, подобный высохшему руслу реки, что некогда, в незапамятные времена, проложила себе дорогу, раскаленным ножом разрезав материк его собственной скорби на две неравные части. Кожа вокруг этого памятника былой боли была грубой, испещренной мелкими морщинами, словно потрескавшаяся от зноя и стужи глина, и имела цвет старого, потемневшего от времени и копоти меди.
Его руки, эти главные орудия его ремесла и его существования, были достойны отдельной величественной оды. Ладони, шириной с добрую сковороду, были покрыты сплошной, желтовато-серой мозолью, монолитной и неровной, как кора древнего дуба. Пальцы – толстые, неуклюжие на вид, но способные на удивительную точность, когда дело касалось хватки молота или клещей, – были вечно исчерчены мелкими, белыми шрамами от летящих искр и окалины. Суставы их, от постоянного напряжения, казались раздутыми, узловатыми, подобно корневищам старого дерева, вцепившегося в каменистую почву. Прикоснись этими руками к щеке младенца – и он вскрикнул бы не от грубости, а от ощущения прикосновения самой стихии, олицетворенной в плоти.
Волосы его, некогда, быть может, черные как смоль, теперь, пропыленные сединой и пеплом, походили на горный снег, тронутый сажей угасшего костра. Они, коротко остриженные, щетинились на его мощной голове подобно заиндевевшей щетине спящего исполина. А из-под тяжелых, нависших век смотрели глаза. Вот что было самым поразительным! Ибо в этих глазах, цвета темного гранита, что веками лежал на дне горного озера, таилась не тупость грубой силы, но глубокая, немая усталость. Они были глазами существа, который видел, как рождается в огне форма для будущего подковы, и как в то же время угасает жизнь в глазах приносимого в жертву козла. Они знали тяжесть молота и леденящее прикосновение мертвой земли, и в их глубине плескалось отражение того самого алого зарева кузни, что было единственным вызовом всепоглощающему мраку долины.
Таким был Гринт, кузнец из Каменного Гнезда. Не просто ремесленник, но плоть от плоти этого сурового края – его молотобоец, его немой страж и одна из тех несущих колонн, что держат на своих плечах не столько крышу мира, сколько всю тяжесть его безмолвного, отчаянного бытия.
Звук его молота, ритмично ударявшего по раскаленному металлу, разносился далеко окрест, будто сердцебиение самой деревни – ровное, монотонное, неумолимое, словно отсчитывающее последние мгновения угасающей жизни. Когда он работал, снопы алых искр разлетались во все стороны, подобно огненным мошкам, последним вспышкам умирающей звезды, и дети, забывая на миг свою обычную сдержанность, протягивали руки, пытаясь поймать эти мимолетные, обжигающие частички тепла и света, которых им так не хватало.
Зимы здесь были долгими, суровыми и безжалостными, как приговор суда, не знающего апелляции. Снег, белый и безмолвный палач, заваливал деревню по самые крыши, превращая ее в огромную, застывшую гробницу, где само время текло медленнее, а звуки терялись в ледяной пустоте, не в силах пробиться сквозь толщу всепоглощающего белого савана.
И так из года в год, из поколения в поколение, текла эта однообразная, серая жизнь. Она была похожа на старую, до дыр заношенную одежду – удобную, привычную, но давно утратившую всякий цвет и форму, сотканную из нитей обреченности и покорности. Никто не ждал здесь перемен, никто не смел мечтать о лучшей доле. Все знали незыблемый закон этого места: чтобы выжить, нужно платить. И они платили.
Платили они ежемесячно, в каждое полнолуние, когда серебристый, холодный свет, лишенный всякого утешения, заливал хмурые склоны, превращая долину в гигантский склеп, освещенный призрачным канделябром. В эту ночь из своих каменных ульев выползало нечто, что еще могло быть названо общиной, но что, в сущности, было сборищем призраков, объединенных общим ритуалом умилостивления.
Старейшина деревни, костлявый, высохший старик по имени Мортомн, чьи глаза были подобны мутным осколкам льда, выплавленным в глубинах векового холода, выводил на окраину, к старому, вросшему в землю жертвенному камню, черного козла. Животное не сопротивлялось, не блеяло, будто с самого рождения, вскормленное горькой полынью и отчаянием, понимало свою страшную участь. Его привязывали к вбитому в землю железному кольцу, покрытому бурыми, ржавыми подтеками – следами бесчисленных жертвоприношений, иероглифами страха, высеченными на алтаре безымянного божества. Женщины в это время, дрожа от страха, что был для них привычнее собственного дыхания, наглухо закрывали ставни и зажигали внутри домов сальные свечи, от которых шел густой, чадный, неприятный запах страха и обреченности – фимиам, возносимый неведомым силам тьмы.
Мужчины, молчаливые и суровые, становились вокруг кольца, образуя живой круг – подобие цирка, где звери сами были и зрителями, и гладиаторами. Их ножи – тупые, зазубренные от частого употребления – тускло поблескивали в лунном свете, словно слепые глаза мертвой рыбы. Они не резали, а пилили, методично и хладнокровно, с отвратительной, размеренной жестокостью палачей, знающих, что завтра на их месте может оказаться любой, пока земля у камня не пропитывалась темной, почти черной кровью, впитывая в себя очередную порцию коллективного страдания, словно ненасытная губа. Эту кровь, густую и дурно пахнущую, собирали в большую деревянную чашу, которую потом с низкими, рабскими поклонами ставили у входа в деревню – умилостивительный дар тем незримым силам, что обитали за гранью человеческого понимания и сострадания, силам, чье имя давно стерлось из памяти, оставив после себя лишь слепой, животный ужас.
Детям, разумеется, говорили, что козел убежал в лес, сбежал на волю. Но они не верили. Они знали. Они всегда знали. По тому, как их матери вздрагивали от каждого шороха за стеной, словно от прикосновения ледяной руки, по тому, как их отцы на рассвете, с отрешенными, каменными лицами, мыли руки в снегу, старательно оттирая невидимые, но въевшиеся в самую плоть, в самую душу пятна.
Но и этого, о чудовищная несправедливость мироздания, было мало! Страшным был и обряд в канун зимнего солнцестояния, когда ночь была самой длинной, а холод – самым пронзительным, впивающимся в кости, словно стальные иглы. Тогда в жертву приносили не козла, а молодую телку – непременно белую, без единого пятнышка, символ чистоты и невинности, обреченной на заклание перед алтарем самого мрака. Ее внутренности, еще теплые и дымящиеся, с торжественной, отвратительной жутью развешивали на заборах, словно некие кошмарные гирлянды, призванные отпугнуть тьму еще большей тьмой, а сердце, все еще трепещущее в последних судорогах угасающей жизни, закапывали под порогом кузницы, дабы сила жизни, заключенная в нем, перешла в железо, которое целый год потом ковал Гринт. Говорили, будто бы подковы, выкованные из такого металла, защищали лошадей от ночного, пророческого ржания, что предвещало неминуемую смерть. Так сама смерть, обернувшись амулетом, должна была охранять от самой себя – великое и жалкое лицемерие, на котором зиждилась вся их шаткая надежда.
Однако венцом этого мрачного цикла жертвоприношений, его апогеем и самым чудовищным подтверждением деградации человеческого духа было нечто, происходившее раз в семь лет. Когда луна на небе становилась кроваво-красной, как застарелый, незаживающий рубец на лице ночи. В ту ночь в жертву приносили уже не животное. В центр ритуального круга выводили самого слабого, самого немощного – дряхлого старика, ставшего обузой; неизлечимо больного, чья агония растянулась; нежеланного ребенка, чей крик был слишком тих для этого мира. Их крики, вопли и мольбы, к счастью для спящих жителей, не долетали до деревни – всевидящий и всё слышащий ветер, этот верный слуга долины, уносил эти душераздирающие звуки в горные расщелины, где вечное эхо надежно хоронило их в своих глубоких, темных утробах, дабы не тревожить сон тех, кто так-же через семь долгих лет, быть может, займет место сегодняшней жертвы.
Наутро на месте жертвоприношения находили лишь аккуратно сложенную груду костей, обглоданных до блеска, будто они пролежали в земле не одну сотню лет. Эти останки с благоговейным ужасом, смешанным с глубочайшим стыдом, закапывали под корнями древней яблони, росшей у колодца. Само дерево давно засохло, окаменело, но, вопреки всякой логике и милосердию, продолжало цвести каждую весну мелкими, липкими, угольно-черными цветами, что источали тяжелый, приторно-медовый запах тления и старой, невысказанной боли, словно сама земля скорбела о невинно упокоенных здесь душах, и ее слезы были ядовиты и черны.
Но на этом странности и ужасы долины не заканчивались. Пожалуй, они лишь только начинались за последней, самой убогой хижиной Каменного Гнезда, там, где рубеж, отделяющий мир людей от царства невысказанных тайн и непостижимых чудес, был тонок, как паутина, и столь же ненадежен.
Ибо там, за частоколом скрюченных, стонущих под тяжестью снега сосен, раскинулся Сад.
Цветник
Но если от площади с колодцем, этого унылого пупа деревни, держать путь прочь от людских взоров, прочь от дымных труб и скрипучих плетней, туда, где мир Каменного Гнезда начинает чахнуть и переходить в дикое, первозданное царство скал и леса, то путник – если бы нашёлся столь отчаянный или слепой на свою погибель странник – обнаружил бы нечто, не поддающееся ни законам ботаники, ни догматам здравого смысла.
Там, на самом краю обитаемого мира, там, где последняя, самая убогая хижина цеплялась за склон с отчаянием утопающего, чьи пальцы вот-вот разожмутся, чтобы принять ледяные объятия бездны, – там начиналась Граница. Не отмеченная на картах, не обозначенная пограничным столбом, она была тем тоньше и нерушимее, ибо была воздвигнута из вещества более прочного, нежели гранит или сталь. Она была соткана из страха, из суеверий, копившихся веками, как вода, превращающаяся в лёд, из молчаливого согласия всего селения считать сие место запретным.
И за этой незримой, но абсолютной чертой, за частоколом скрюченных, стонущих под тяжестью снега сосен, чей мрак казался ещё гуще и плотнее, чем самая черная ночь, – там простирался Сад.
Не огород, не участок, обработанный для пропитания, где чахлая репка или кочан капусты тянулись к скупому солнцу, дабы продлить жалкое существование своего владельца. Нет! То было место, подобного которому не видывали ни в одной из долин того сурового края. Он жил и дышал по законам, неведомым ни прилежным натуралистам, ни вдохновенным поэтам, – законам, которые могли бы свести с ума самого смелого естествоиспытателя и привести в восторг самого мрачного философа.
Он располагался в некоем естественном амфитеатре, образованном выступами черных, почти вертикальных скал, что смыкались над ним, словно гигантские, каменные руки, сложенные для тайной молитвы. Эти скалы-близнецы, прозванные в деревне Молчаливыми Стражами, не пропускали сюда ни ветров, свирепствовавших на вершинах, ни любопытных взоров. Они создавали свой собственный, замкнутый мирок, свою вселенную в миниатюре, где царили иные порядки, иное время текло в жилах растений, иная реальность пульсировала под тонкой пленкой привычного мира.
Сам Сад был окружен высокой, почти неприступной живой изгородью из дикого шиповника. Но и это описание слишком скудно и бледно! Сия изгородь не была творением человеческих рук; казалось, сама природа, обезумев от скорби или экстаза, породила сие творение. Ветви его, причудливо переплетенные, подобные скрюченным, окаменевшим пальцам великанши, образовали сплошную, колючую стену, бросавшую вызов самому понятию простора. Колючки на них, длинные и отточенные, словно кинжалы забытой расы, блестели в сумраке, как слезы, навеки застывшие на ресницах самой Ночи. И вся эта живая стена дышала – медленно, глубоко, могуче, – и корни её, уходящие в самую глубь земли, казалось, достигали самых истоков мира, подпитываясь от его темного, первозданного сердца.
Ибо всякое царство, будь оно земным или же, как сие, рожденным на грани миров, требует не только сердца, но и трона, не только алтаря, но и скита. Таким троном, таким скитом служило жилище, столь же неотделимое от пейзажа Долины, сколь и сад, но говорившее на ином, более приземленном и оттого, быть может, более скорбном языке.
Если сад был душой, вывернутой наружу в буйстве красок, шепота и странных запахов, то дом сей был скрытой, затаенной плотью, человеческой оболочкой, в которой можно было укрываться от непонимания и холода. И располагался он не в самой гуще растительного безумия, но на самой его опушке, там, где последние, самые дерзкие побеги шиповника почти касались его стен, словно пытаясь поглотить и это последнее пристанище, втянуть его в свой чарующий и ужасный круговорот.
Взгляд, скользящий по периметру, невольно останавливался на этом строении. И поначалу оно казалось лишь продолжением того же хаоса, той же первозданной мощи. Оно было слеплено из того же серого, бесстрастного камня, что и все дома в Каменном Гнезде, и так же прилеплено к крутому склону, будто гигантский каменный гриб, выросший из тела горы. Стены его, кривые, покосившиеся от вечного напора ветров и тяжести лет, дышали той же древней усталостью, что и скалы, венчавшие ущелье. Они были прошиты трещинами, будто морщинами на лице столетнего старца.
Крыша его, низкая и покатая, дабы с неё легко скатывалась невыносимая тяжесть зимних снегов, была покрыта потемневшей, почти черной дранкой, из-под которой клочьями свисал седой мох- тот самый, что покрывал и камни в лесу, и крыши всех прочих хижин. И вся эта конструкция, взятая в отдельности, не представляла собой ничего примечательного; это был обычный дом здешних мест, таких в деревне было с десяток. Но контекст, в коем он пребывал, менял всё.
Ибо стоял он не среди других таких же скорбных жилищ, а одиноко, на отшибе, обращенный слепым затылком к деревне и ее жалкому шуму, и своим ликом – к саду. Окна его, два небольших, словно щелевидных бойницы, прорезанных в толще каменных стен, казались слепыми. Стекла их, мутные и непрозрачные от времени и вечной влаги, не пропускали внутрь почти никакого света, а изнутри были наглухо завешаны тканями. Они не отражали бледного солнца долины, а они лишь поглощали свет, как поглощает его глубины болотная топь. Эти окна не были очами дома, они были его закрытыми веками, его упрямым отказом видеть что-либо.
Дверь, низкая и широкая, сбитая из грубых, почерневших от непогоды досок и подбитая для прочности такими же почерневшими железными полосами, казалась входом не в жилище, а в пещеру. На ней висел тяжелый деревянный засов, простой и неуклюжий, но выглядевший нерушимым, как скала.
Этот дом был мостом. Мостом между двумя формами небытия: одним – творческим, цветущим, полным страшной жизни, и другим – молчаливым, затворническим, человеческим. И в этом его скромном, почти убогом упорстве таилась своя, немая трагедия. Ибо говорил он о том, что даже душа, способная взрастить столь дивное и столь чудовищное царство, вынуждена была возвращаться под кров из камня и глины, дабы хоть на миг прикоснуться к призрачному подобию того, что люди зовут домом.
Пространство, окружавшее жилище, было тому немым, но красноречивым свидетельством.
Непосредственно вокруг самого дома, на клочке земли, отвоеванном у скал и вечной мерзлоты, царила бедность, столь же привычная, сколь и безысходная. Земля здесь была утоптана, лишена даже той чахлой травы, что кое-как цеплялась за склоны, и являла собой смесь крупного щебня, мерзлой грязи и утоптанного снега, превратившегося в серовато-бурую, зернистую корку. Ни куста, ни деревца – лишь одинокий, обледеневший пень, оставшийся от давно срубленной березы, торчал черным, обломанным зубом, служа единственным доказательством того, что некогда и здесь пыталось пробиться к жизни нечто, помимо камня и воли человека. С севера дом прикрывала от самых лютых ветров невысокая, но крутая каменная гряда, голая и негостеприимная; с юга же – если это направление вообще имело смысл в долине, где солнце было редким и обманчивым гостем – к его стенам подступало нечто иное.
От порога тянулась слабо натоптанная тропинка, терявшаяся уже в двадцати шагах, в частоколе дикого шиповника. И вот здесь, у самой этой живой стены, начиналось владение, ради коего и стоило дышать в этом ледяном аду. Сад.
Но не ищите здесь ни буйства красок, ни экзотических диковин. Это был сад-воин, сад-аскет, рожденный не для услады взора, но для доказательства некоей глубочайшей, упрямой истины. Он не бросал вызов природе долины – он уживался с нею, находил в ее суровых законах свои собственные, столь же железные, устои.
Живая изгородь, о которой уже шла речь, была сложена не из невиданных растений, а из того самого дикого шиповника, что рос по всему ущелью, но здесь, под присмотром, достиг невероятной, почти неестественной густоты и высоты. Его ветви, переплетенные в мертвой хватке, образовывали непроницаемую стену, а длинные, ядовитые шипы служили ему верной и грозной стражей. Под этой защитой, в микроклимате, созданном самим рельефом и волей человека, и теплилась жизнь.
Земля на грядках, тщательно перекопанная и ухоженная, даже в лютые морозы не каменела насмерть, сохраняя под снежным одеялом темный, почти черный цвет жирной, насыщенной гумусом почвы. Здесь росли не алые розы, плачущие кровью, а самые обычные, хоть и невиданной для здешних мест выносливости, лекарственные травы: суровый зверобой, темно-зеленая полынь, чабрец, стелющийся по камням, и мята, чей холодный аромат смешивался с запахом снега. Рядами, подвязанные к колышкам, стояли кусты смородины и крыжовника с одеревеневшими, скрюченными ветвями – не сочные южные великаны, но коренастые, сильные карлики, чьи почки уже сейчас, подо льдом, копили силы для краткого северного лета.
И в самом центре, под прикрытием самой высокой части каменной гряды, стояла яблоня. Не засохшая, не окаменевшая, но живая, хоть и скрюченная, с корой, покрытой глубокими морщинами, словно кожа старого рыбака. Ее ветви, причудливо изогнутые, были голы и черны, но на самых кончиках уже наливались тугие, смолистые почки, обещавшие в свой час скромную яблоневую цветень. Это дерево было патриархом, древним стражем, и его упрямое существование здесь, в этом ледяном мешке, было большим чудом, чем любая волшебная флора.