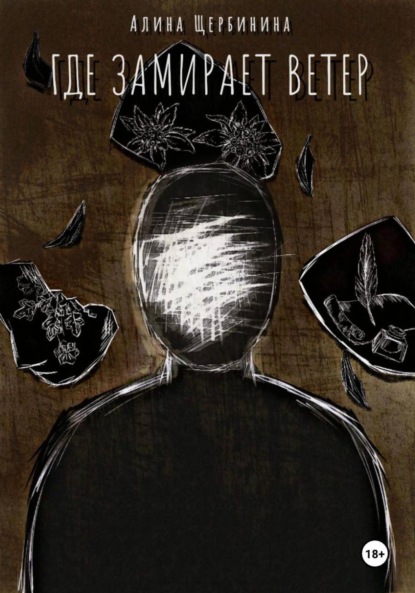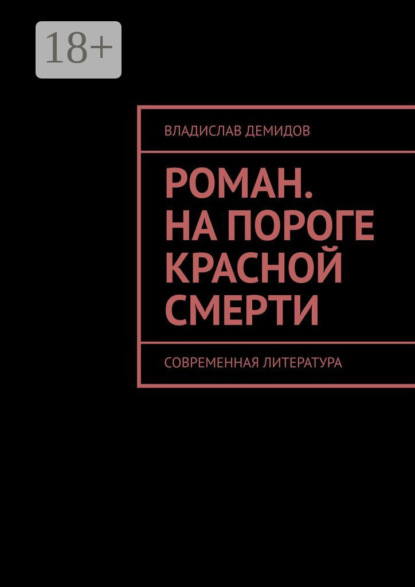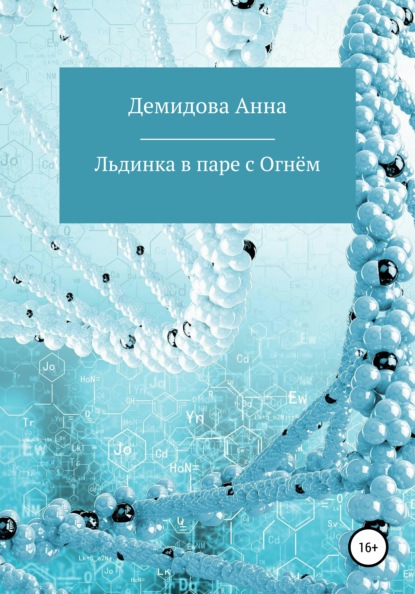- -
- 100%
- +
Воздух в саду был тих и неподвижен. Лишь изредка порыв ветра, пробивавшийся сквозь горные теснины, заставлял сухо шелестеть прошлогодние стебли трав да поскрипывать голыми ветвями яблони. Ничего сверхъестественного, ничего, что кричало бы о чуде. Только титанический, ежедневный, почти невидимый труд по защите маленького островка жизни от всепоглощающего океана холода и камня.
Войти сюда – а решались на такой отчаянный шаг лишь единицы, движимые либо безумной отвагой, либо полным, всепоглощающим отчаянием, – значило переступить порог не просто в другой сад, но в иную меру бытия. Воздух внутри менялся, становился густым, тяжелым и сладковатым, словно пропитанным мироносицей забвения. Земля под ногами была на удивление теплой даже в самые лютые морозы, будто глубоко в её недрах тлел вечный, неугасимый огонь, согревающий корни этого странного места, -сердце планеты, бьющееся прямо здесь, под ногами.
Таким представал сей заповедный уголок – не как часть пейзажа, но как сердцевина тайны, средоточие жизни, упрямо проросшей сквозь толщу всеобщей смерти. Он был ядром, вокруг которого, словно бледные спутники, вращались деревня, её страх и её мрачные ритуалы.
И подобно тому, как древние храмы возводили на разломах земной коры, где тонка грань между мирами, так и это место было воздвигнуто на разломе ином – на рубеже, отделяющем мир людей, с его грубыми страхами и жестокостью, от мира иного, мира корней, тишины и невысказанных тайн. И хранительницей сего хрупкого равновесия, его душой, стражем и вечной пленницей, была та, чье имя отныне навсегда связано с этим местом.
Лисив
Если бы некий странствующий художник или утомленный жизнью философ забрел в ту пору в Долину Вечного Инея и узрел бы Лисив, он, без сомнения, принял бы ее за порождение собственного утомленного воображения или же за призрака. Плоть ее была так же бела, как снег, покрывший окрестные скалы, но белизна эта не была ни здоровой, ни жизненной. Это была белизна мрамора, веками вбиравшего в себя скорбь надгробий; белизна фарфора, хранимого в запечатанной гробнице; белизна лунного луча, отраженного в ледяной глыбе, под которой спит утонувший, – белизна вечного покоя, застигшего врасплох еще живое существо.
Она не была высока, но в ее осанке, в каждом движении была странная, врожденная величавость – не королевы, восседающей на троне, но жрицы, забывшей имя своего божества и оставшейся хранить опустевший алтарь. Ее черные волосы, цвета воронова крыла в беззвездную ночь, были так длинны и густы, что ниспадали до самой земли, тяжелой, струящейся рекой, в которой, казалось, тонул весь скудный свет долины. Они были не просто волосами; они были покровом, мантией, последней живой изгородью вокруг ее собственного, незримого и строго охраняемого сада. В их густой, непроницаемой темноте навеки запутались сухие листья, обломки шипов, крупинки земли – знаки, непрестанного труда, гербы ее единственного и безраздельного царства, ставшего ей и домом, и темницей.
Лицо ее, являвшее редкую, хрупкую и оттого еще более пронзительную красоту, могло бы сойти с кисти художника, пишущего мадонн, если бы не полное, леденящее душу отсутствие того, что называют одухотворенностью или живым огнем души. Нет, это было лицо, с которого всякая обыденная человеческая жизнь словно бы сошла, уступив место иному, более глубокому и более пугающему выражению – выражению безмолвного, непрекращающегося диалога с чем-то древним, первозданным и глубоко нечеловеческим. Черты ее были тонки и правильны, но кожа, натянутая на высоких, острых скулах, была так прозрачна и бескровна, что сквозь нее проступали синеватые тени жилок, подобные рекам на карте неведомой, забытой и проклятой страны. Губы, почти лишенные цвета, были тонки и сомкнуты в вечную, невысказанную мысль, в вечный вопрос, на который нет ответа. Но главное – это были ее глаза.
О, глаза ее! Большие, бездонные, цвета темного гранита, что века лежал на дне бездны, или запекшейся крови на древнем камне. В них не было ни блеска юности, ни огня страсти, ни даже отблеска обыденного человеческого ума. Это были глаза существа, которое смотрит не вовне, а вовнутрь; которое видит не предметы, а их сокровенную, часто ужасающую суть. В них таилась глубокая, первобытная опасливость, как у лесного зверя, вечно прислушивающегося к шагам невидимого охотника. Но за этой опасливостью скрывалась и слепая, фанатичная одержимость отшельника, видящего лишь свое святилище, и бездонная, вековая усталость, тяжелее любого свинца, усталость от самого акта существования.
Одевалась она в простые, грубые одежды землистых, выцветших тонов, более похожие на обертки корней или на грибницу, проросшую сквозь ветхую ткань. Грубые шерстяные юбки темных, немарких цветов, простые блузы из толстого холста, поверх которых в холод набрасывалась стеганая безрукавка, когда-то, быть может, имевшая цвет, но теперь выцветшая до неопределенного серо-бурого оттенка. На ногах – прочные, но истоптанные башмаки, насквозь промокавшие от снега. На голове – большой шерстяной платок, которым она повязывалась, как все здешние женщины, но концы его болтались небрежно, словно ей было все равно, защищает он от стужи или нет. Никакого особого убора, никакой таинственности – лишь утилитарная, потрепанная жизнью одежда, отражающая ее внутреннее состояние: полную опустошенность и безразличие к собственному виду. Казалось, сама земля сада породила ее вместе с травами из своей темной, плодородной утробы, и она была его плотью от плоти, его духом от духа, его вечным заложником и единственным властителем.
Люди не шарахались от нее в страхе. Нет. Они расступались, образуя вокруг нее незримый, но абсолютно непроницаемый круг отчуждения, словно она была не женщиной, а прокаженной, чья болезнь – не телесная, но душевная, и оттого еще более страшная. Громкие разговоры смолкали, сменяясь густым, красноречивым шепотком. Женщины, те самые, чьи лица напоминали сморщенные яблоки, отворачивались к своим лукошкам с репой, делая вид, что не замечают ее, но их спины напрягались, а пальцы судорожно перебирали товар. Мужчины, эти молчаливые статуи отчаяния, бросали на нее быстрые, исподлобья взгляды, полные суеверного страха и смутной, неосознанной неприязни ко всему, что выходило за рамки их убогого понимания мира.
– Ведьма, – шептали одни, и в этом слове был не ужас перед колдовством, а простонародное, примитивное обозначение всего непонятного и потому враждебного.
– Земля ей сестра, а нам, простым людям, что с нее взять?
– Дурочка, – с оттенком жалости, тут же заглушаемым страхом, говорили другие.
– Умом тронулась, с травами разговаривает. Грех это, против природы.
– Погляди на руки-то, в крови вечной – вступали третьи.
– Это она, сказывают, зарок такой дала. Кровью своей сад поливает, оттого он и растет, где всему живому помирать положено. Нечистая сила.
Лисив, слышала этот шепот. Он доносился до нее, как доносится шум прибоя до человека, стоящего на высоком утесе, – приглушенно, неразборчиво, но неумолимо. Она не реагировала. Ее взгляд, темный и непроницаемый, был устремлен куда-то внутрь себя или поверх голов этих людей, в серое, свинцовое небо. Она двигалась через рынок с той же величавой, отстраненной медлительностью, с какой двигалась по своему саду, будто шествуя по дну океана, а они, люди, были лишь бледными, неясными тенями на поверхности.
Она подходила к торговке, старухе с лицом, испещренным морщинами глубже, чем борозды на полях, и молча протягивала ей несколько затертых монет – несмотря на их точною цену, отдавая все, что было. Та, бормоча что-то невнятное, совала ей в руки узел с солью или корзину овощей, стараясь не коснуться ее пальцев, словно боясь заразиться не столько болезнью, сколько самой ее судьбой, ее проклятием одиночества.
Дети, эти маленькие барометры всеобщего настроения, при ее появлении затихали и жались к ногам матерей, а потом, когда она проходила, высовывались из-за спин и смотрели ей вслед широкими, испуганными глазами. Они не бросались вслед камнями – страх был слишком глубок для такой открытой агрессии. Они просто смотрели, впитывая, как губка, этот образ – бледная женщина в темных, выцветших одеждах, с рекой черных волос и руками, вечно исцарапанными в кровь, несущая с собой тишину и холод, который невольно заставлял отступать.
И вот, совершив свою нехитрую покупку, Лисив разворачивалась и тем же безмолвным, неспешным шагом возвращалась к своей живой изгороди, которая была ей и убежищем, и тюрьмой. Она уходила, и за ее спиной жизнь на площади медленно, со скрипом, как заржавевший механизм, возвращалась в свое привычное, унылое русло. Шепот стихал, сменяясь обычными разговорами об урожае, о скотине, о надвигающихся морозах. Казалось, все забывали о ней до следующего ее появления.
Но это было не так. Ее образ, как заноза, оставался в сознании деревни. Он был живым укором, напоминанием о том, что даже в этом аду из льда и камня возможна иная форма существования – непонятная, пугающая, но существование. Она была тайной, которую они не могли разгадать, и потому ненавидели, ибо все неразгаданное пугает, а страх рано или поздно рождает ненависть.
И когда она скрывалась за поворотом тропы, ведущей к ее саду, на площади воцарялась на мгновение тягостная пауза, будто все присутствующие невольно облегченно вздыхали, и кто-нибудь из стариков, сидевших у колодца, обязательно изрекал хриплым, простуженным голосом:
– Нечистое это место, у нее там. Не иначе. И ей самой там недолго осталось. Бог шельму метит.
И все молча кивали, с наслаждением вновь погружаясь в привычную трясину своих суеверий, словно в теплую, отвратительную грязь. Им было проще думать, что она порождение нечистой силы, нежели признать в ней просто очень несчастную женщину, чье горе было так велико, что оно переросло в нечто иное, в некую новую, страшную форму жизни, неподвластную их пониманию.
Так, между садом, что был душой, и деревней, что была скорлупой, существовало хрупкое, враждебное равновесие. Они нуждались друг в друге, как тюремщик нуждается в узнике, а узник – в тюремщике, дабы оправдать собственное существование. И это равновесие, эта зыбкая граница, готовилась рухнуть, ибо из-за гор, из мира вечного холода и безмолвия, уже ступала нога того, для кого ни сад, ни деревня, ни сама душа человеческая не значили ровным счетом ничего.
4. Странник, Спросивший о Розе
Ибо ничто в этом мире, даже самое застывшее и, казалось бы, незыблемое, не может пребывать в покое вечно. Равновесие – удел мертвых, жизнь же есть постоянное движение, борьба, и даже в самом отчаянном затворничестве находится дверца, в которую рано или поздно постучится судьба, будь то ангел или демон, а чаще – нечто, не поддающееся простому определению, нечто, чье появление предваряется не криком, а безмолвием, более громким, чем любой звук.
Стук, прозвучавший в ту ночь у ворот сада Лисив, не был похож ни на один из звуков, что знала долина. Это был не стук заблудившегося путника, молящего о приюте, не дробный перестук дятла по коре сосны и не гулкий удар сорвавшейся с крыши ледяной глыбы. Нет. Это был звук иной природы – тяжелый, мерный, отчеканенный, словно его источником служила не живая рука, а сама бездушная механика мироздания, шестеренки вселенских часов, отсчитывающих время для кого-то одного. Каждый удар отдавался не только в дереве, но и в спящей земле, в промерзлых стенах домов, в самых костях тех немногих, кто, затаив дыхание, прислушивался к ночи, чувствуя, как незримая трещина проходит по хрупкому льду их привычного существования. Он был похож на удары молота о наковальню, но наковальней этой была вся долина, а молотом – неведомая, надмирная сила, воля, для которой не было преград.
Лисив, что в ту ночь не спала, ворочаясь на своей жесткой постели под грубым одеялом, услышала этот стук. Он проник сквозь толстые стены ее каменного дома, сквозь шорох голых ветвей за окном, сквозь гул в собственных висках. Она не вскочила, не зажгла свет. Она замерла, превратившись в слух, в ожидание. Сердце ее, привыкшее биться ровно и глухо, как подземный ключ, заколотилось в груди с бешеной, животной силой. Это не был страх перед людьми. Это был страх перед неизвестным, перед тем, что не укладывалось в знакомую ей картину мира, где были только она, ее сад и враждебная, но понятная деревня.
Стук повторился.
Снова тот же мерный, неумолимый ритм. Он не выражал нетерпения. Он был констатацией факта: Я здесь. И я войду.
А потом стук прекратился. Воцарилась тишина, еще более зловещая, чем прежде. Тишина внимания. Тишина наблюдения.
И в сей внезапно наступившей гробовой немоте, что повисла в промерзлом воздухе тяжелее свинцовых плит, Лисив замерла, превратившись в одно сплошное, напряженное ожидание. Ее пальцы, лишь мгновение назад впившиеся в грубую шерсть одеяла, разжались, но не обрели покоя – они застыли в воздухе, холодные и недвижные, словно отторгнутые самой плотью. Дыхание ее затаилось, замерло в ледяной груди, и ей почудилось, будто даже пламя в очаге, обычно потрескивающее уютным басом, притихло и съежилось, внимая сей всепоглощающей тишине.
Она не смела шелохнуться, боясь, что малейший шорох -скрип половицы под ее босой ногой или биение собственной крови в висках, вдруг ставшее оглушительно громким, – сорвет с места эту невыносимую паузу. Ее слух, отточенный одиночеством до неестественной остроты, напрягся до боли, вылавливая из безмолвия малейшие отзвуки. Но мир за стенами будто вымер. Ни завывания ветра в стропилах, ни привычного скрипа старой сосны у порога – ничто не нарушало мертвого покоя. Казалось, сама метель застыла, и миллиарды снежинок замерли на полпути к земле, повинуясь внезапно наступившему велению свыше.
Эта тишина была иной. Она не была отсутствием звука; нет, она была его противоположностью – живой, плотной, мыслящей субстанцией. Она обволакивала дом, просачивалась сквозь щели в бревнах, наполняла горницу незримым, давящим присутствием. То была тишина хищника, затаившегося у водопоя, тишина прицелившегося стрелка. Тишина, в которой слышалось неслышное: безмолвный вопрос, обращенный к ней одной, и бездушный, пристальный взгляд, что уже проникал сквозь стены, ощупывая ее застывшую в ужасе фигуру.
И в этом леденящем душу безмолвии, длившемся вечность, Лисив, все еще не двигаясь с места, ощутила нечто новое – странное, щемящее любопытство, пробивавшееся сквозь ледяную корку страха. Что или кто мог так стучать? Что стояло сейчас по ту сторону двери, в ослепительной и безжалостной белизне снежной ночи? И, затаив дыхание, она продолжала слушать, вся, превратившись в слух, в ожидание, в вопрос, не смеющий облечься в звук.
Но сколь бы ни была всепоглощающей тишина, сколь бы ни цепенела плоть от ужаса, жизнь – эта упрямая искра в ледяной пустоте – неизбежно требовала движения. Медленно, с тем трудом, с каким отрывают от камня примерзшую руку, Лисив оторвала спину от спинки кровати. Каждое ее движение было осторожным, прерывистым, словно она боялась разбить хрустальную вазу вселенского безмолвия, что установилась в горнице. Босые ноги ее коснулись ледяного пола, и стужа, живая и цепкая, мгновенно впилась в кожу, поднимаясь по жилам выше, к самому сердцу, но и этот холод казался теперь частью общего оцепенения.
Она не зажгла светильника. Какая свеча могла развеять мрак, что исходил не от ночи, а из самой сути происходящего? Она, подобно ночной птице, что видит незримое, движима была иным, смутным зрением, рожденным из страха и обострившегося слуха. Плетясь, будто сквозь густую, невидимую паутину, она приблизилась к окну – тому самому, что выходило в сад и к тропинке, где пролегал незримый рубеж между ее миром и враждебной пустотой.
Пальцы ее, тонкие и бледные, дрожа, уперлись в холодное, заиндевевшее стекло. Она не пыталась растопить ледяной наст дыханием; нет, ей нужно было увидеть, вернее, увидеть сквозь – сквозь матовую, искристую пелену, сквозь густую тьму, сквозь самую ткань ночи. Прильнув лбом к леденящему стеклу, она впилась взглядом в белую, кружащуюся мглу за окном. Снег продолжал свой безмолвный танец, но теперь он казался ей не стихией, а завесой, за которой скрывалось нечто, затаившее дыхание и наблюдающее за ней с тем же напряженным вниманием.
И вот, в этом немом противоборстве двух воль – ее, замершей у окна, и той, незримой, что стояла по ту сторону стены, – время утратило свою власть. Секунды тянулись, как часы, а часы – как вечность. Она не видела ничего, кроме метели, не слышала ничего, кроме собственного сердца, колотившегося в груди с такой силой, что казалось, вот-вот вырвется и упадет на пол, трепеща и окровавленное. Но она стояла, вцепившись в подоконник, ее тело стало жестким, как сталь, ее воля сосредоточилась в одной-единственной точке – в ожидании.
Что оно хотело, это неизвестное? Почему, постучав, оно умолкло? Быть может, это был не призыв, а испытание? Или, того страшнее, – констатация факта его присутствия, предвестие того, что дверь – будь то дверь дома или дверь в ее собственную душу – отныне для него более не преграда?
И в этой леденящей душу неопределенности, в этой пытке беззвучия, рождалось самое страшное – работа воображения. Ей чудились очертания в снежной пелене – то высокая, темная фигура, то два холодных, немигающих огня, взирающих на ее освещенное изнутри окно. Ей казалось, что по другую сторону стены слышно тихое, ровное дыхание, инеевое от холода. Вся ее сущность, все ее нервы превратились в единый, натянутый струной орган чувств, улавливающий малейшую вибрацию враждебного мира.
Так и простояла она до самого рассвета, не сомкнув глаз, превратившись в стражу собственного порога, в живой памятник собственному страху. А когда первый бледный и безрадостный свет начал размывать очертания ночи, она, обессиленная и окоченевшая, отползла от окна, унося с собой в дрожащее тело и в израненную душу одну лишь горькую уверенность: тишина была хуже стука. Ибо стук был действием, а тишина – обещанием. И каким страшным будет это обещание, она боялась даже помыслить.
Когда первые лучи пробивающегося солнца, это тусклое свечение сквозь облака озарил деревню и ее каменный дом, в саду ничего не изменилось. И все же все изменилось. Лисив, выйдя на свой утренний обход с лицом, еще более бледным от бессонной ночи, сразу почувствовала это. Воздух был гуще, тяжелее. Звон снега под ногами казался приглушенным, будто затянутым ватой. И было ощущение, что за живой изгородью, в том мире, что она считала своим, но который на самом деле был лишь крошечным островком в океане чуждых сил, кто-то есть.
Она не увидела его сразу. Сначала это было лишь смутное присутствие, давление на границе восприятия, как бывает, когда чувствуешь на себе чей-то пристальный взгляд, обернувшись – никого. Она пыталась заниматься своими делами – поправляла подвявшую ветку, счищала с трав наледь, но пальцы ее не слушались, были деревянными. И вот, подняв голову от куста с особенно капризными, вечно норовящими уколоть шипами, она увидела.
Он стоял по ту сторону изгороди, в тени двух старых, скрюченных сосен. Не двигался. Не шелестел одеждой. Просто стоял.
Облик его не был обличьем твари, рожденной под луной или солнцем; он был подобен воплощенной идее, вырвавшейся из умозрительных сфер и обретшей форму, дабы явить миру всю невыразимую тяжесть вечного покоя. Он был высок и строен, но в его статичной позе не было ни человеческой грации, ни звериной мощи; она являла собой совершенную вертикаль, прямую как меч, опущенный острием в землю, – линию, отрицающую саму возможность суеты, наклона, падения.
Одеяния его, цвета глубокой, беззвездной полночи, не были сшиты, но словно струились вокруг него, как река забвения, текущая в обратном направлении, от мира к своему истоку – вечной тьме. Ткань, если это можно было назвать тканью, не колыхалась от ветра, ибо ветер не смел касаться ее; она поглощала свет, звук и сам воздух вокруг, создавая вокруг фигуры ореол зияющей, безвоздушной пустоты. И что было страшнее всего – на месте, где у смертных начинается шея и грудь, не было ни воротника, ни каких-либо иных деталей, что могли бы намекнуть на плечи, на ключицы, на биение жизни под кожей. Оттуда, из темных складок, плавно, без всякого перехода, поднималось Его Лицо. Или то, что служило ему заменой.
Ибо лицом его была маска.
Но какая маска! Она не была слепком с человеческого облика, не была грубой подделкой под плоть и кровь. Нет, это был шедевр холодного, бездушного ремесла, творение существа, для которого сама мысль о тепле была кощунством. Выточенная из цельного куска чернейшего льда или, быть может, из осколка ночного неба, лишенного светил, она была отполирована до ослепительного, зеркального блеска. И в этом заключалась ее ужасающая загадка: она ничего не отражала. Ни бледного лица Лисив, ни уродливых сучьев деревьев, ни бледного серпа луны. Взгляд, устремленный на нее, тонул в этой абсолютной, ненасытной черноте, не встречая ни ответа, ни дна.
Эта поверхность была идеально гладкой, без единой черты – ни намека на глаза, ни ложбинки для носа, ни разреза для рта. Лишь плавные, геометрически безупречные изгибы, образующие овал, более совершенный, чем самый правильный из человеческих ликов, и оттого в тысячу раз более отчужденный. Это был не лик, а отрицание лика; не маска, скрывающая нечто, а утверждение того, что нет ничего, что могло бы или должно было быть скрыто.
И все же, в самой сокровенной глубине этой черной глади, там, где зрение уже отказывалось различать что-либо, мерцали две крошечные точки. Не глаза, нет – но два холодных, нестерпимо далеких огонька, подобных звездам, увиденным сквозь толщу льда на дне полярной расселины. Они не выражали ни мысли, ни чувства, ни любопытства. Они фиксировали. Вбирали в себя все сущее, как бездонные колодцы вбирают падающие в них капли, беззвучно и безвозвратно. Их мерцание было не живым, а математическим – ритмичным, неумолимым, как тиканье космических часов, отсчитывающих время до конца всех вещей.
И этот безликий лик, взиравший на мир двумя слепыми очами вечности, был страшнее любой гримасы ярости или отвращения. Ибо в его совершенной неподвижности и безмолвии читалось самое чудовищное откровение: он не ненавидел жизнь. Он не презирал ее. Он просто не видел в ней никакого смысла, никакой ценности, кроме разве что ценности кратковременной аномалии в великом и безразличном порядке небытия. Он был самой вечностью, явившейся на порог мимолетного мира, и его маска была зрачком, через который в этот мир взирало само Ничто.
Лисив, не побежала. Не закричала. Она стояла, вцепившись пальцами в складки своего платья, чувствуя, как ледяная волна страха сменяется в ней странным, острым, почти болезненным любопытством. Он смотрел на нее. Она чувствовала этот взгляд, тяжелый и бездушный, будто на нее давила вся тяжесть гор, окружавших долину.
Он не делал ни малейшего движения, чтобы приблизиться. Он просто наблюдал. И в этом наблюдении была нечеловеческая, неумолимая концентрация. Он изучал ее так, как геолог изучает редкий минерал, как астроном – новую, незнакомую звезду. Его неподвижность была страшнее любой угрозы.
Так прошло все утро. Лисив, преодолевая парализующий ужас, заставила себя продолжать работу. Она подвязывала травы, зная, что он видит каждый ее жест, поправляла ветви, чувствуя на себе этот бездушный, аналитический взгляд. Это было пыткой. Пыткой быть увиденной тем, для кого ты – всего лишь интересный феномен, биологический курьез в царстве вечного льда.
Он приходил и на следующий день. И на следующий. Всегда на рассвете, всегда занимая одно и то же место в тени сосен. Всегда неподвижный. Всегда молчаливый. Его присутствие стало частью пейзажа, как скала или старое дерево, но частью враждебной, инородной. Сад будто сжимался под этим взглядом. Сама жизнь, казалось, замирала в почтительном, или в смертельном ужасе перед лицом вечного покоя.
И вот, спустя неделю этого немого, невыносимого стояния по разные стороны живой изгороди, когда терпение Лисив было уже на пределе, а любопытство начало перевешивать страх, случилось нечто. Не он заговорил первым. Нет. Это был ветер. Порыв, более сильный, чем обычно, прошелестел листьями, заставив колокольчики издать особенно жалобный, протяжный звон.
И тогда, сквозь частокол ветвей и колючек, донесся его голос. Он не гремел и не шептал – он вибрировал в самом воздухе, в коре деревьев, в земле под ногами Лисив, словно звук, рожденный колебанием космической струны, голос самой пустоты, обретший слово.
– Объясни мне. – прозвучало это слово, и каждый слог был ясен и холоден, как капля ледяной воды.
– Этот звук… он рождается от движения воздуха? Или само растение его издает, подобно тому, как человек издает крик, когда ему больно?
Вопрос прозвучал с той же безжалостной, аналитической прямотой, с какой он наблюдал за ней все эти дни. В нем не было ни любопытства, ни сочувствия – лишь потребность в факте, который можно внести в бесконечный каталог мироздания.