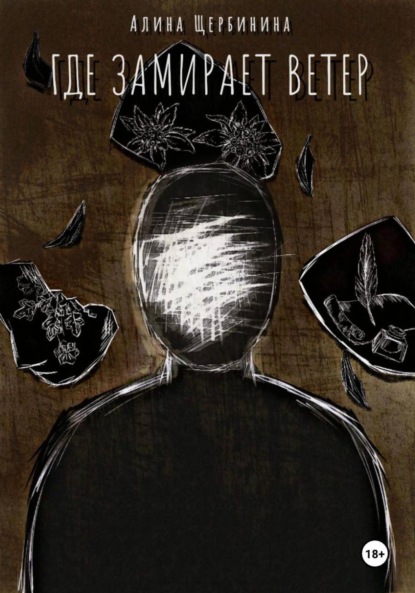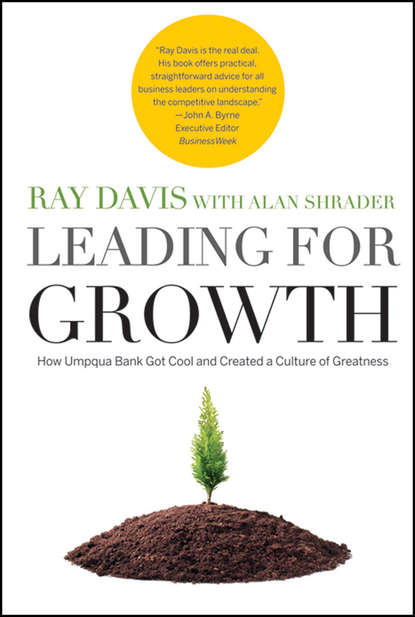- -
- 100%
- +
Лисив, застигнутая врасплох, отпрянула. Она сжала в руке садовый нож, но тут же опустила его. Что мог этот жалкий кусок железа против того, кто, казалось, был сделан из самой субстанции ночи?
Прошло несколько томительных секунд, прежде чем она нашла в себе силы ответить. Голос ее был тих и прерывист, но он прозвучал.
– Он… рождается от движения, – сказала она, глядя не на него, а на колокольчики, которые росли вначале сада, протестуя всем своим видом холоду. – Ветер качает их, и они… поют. Это их песня.
– Песня? – переспросил он, и в его голосе, лишенном тембра и эмоций, все же угадывалась тень чего-то, что можно было бы принять за изумление. – Но зачем? У них нет души, чтобы чувствовать радость или печаль. Нет разума, чтобы слагать гимны. Это бессмысленная трата энергии.
– Не всякая трата энергии бессмысленна, – возразила Лисив, и в ее собственном голосе послышалась неожиданная для нее самой твердость. – Иногда… энергия тратится просто на то, чтобы быть. Чтобы заявить о своем существовании. Чтобы… чтобы мир не был полностью безмолвен.
– Безмолвие – это совершенство, – последовал немедленный ответ. – В нем нет ошибок, нет боли, нет тления. Звук – это признак несовершенства, нарушения покоя. Распада.
– Или жизни, – тихо, но настойчиво сказала Лисив. – Жизнь – это и есть распад. Медленное, отчаянное, прекрасное горение от первого крика до последнего вздоха.
За изгородью воцарилась пауза. Казалось, он обдумывает ее слова.
– Горение, – наконец произнес он, и это слово прозвучало на его языке странно, чуждо. – Оно оставляет после себя пепел. Холод. Тишину. Я знаю пепел. Я знаю холод. Я и есть тишина. Зачем же стремиться к горению?
– Потому что пока горишь – ты чувствуешь, – выдохнула Лисив, и впервые за долгие дни она посмотрела прямо на него, на эту сверкающую ледяную маску. – Потому что в пламени есть свет. И тепло.
– Свет ослепляет, – возразил он. – Тепло обжигает. Холод и мрак не причиняют боли. Они – истина.
– Они – ничто, – прошептала она.
– Да, – согласился он, и в его голосе не было ни торжества, ни печали. Лишь констатация. – Именно. Ничто. А из ничто все произошло и в ничто все вернется. Я страж врат этого Ничто. И я наблюдаю за твоим горением. Оно… интересно.
С этими словами он отступил на шаг назад, и его фигура начала таять, растворяться в сгущающихся вечерних сумерках, словно ее и не было. Сначала исчезли очертания плаща, потом – сияние маски, и, наконец, две точки холодного света в ее глубине, пристально и неумолимо глядевшие на нее.
Лисив, осталась стоять одна, дрожа от холода и переполнявших ее противоречивых чувств – страха, гнева, любопытства и какой-то щемящей, невыразимой жалости к этому существу, для которого сама жизнь была лишь «интересным» отклонением от нормы, болезнью мироздания.
Диалог был начат. Мост через пропасть между двумя мирами, хоть и зыбкий, как луч света в тумане, был перекинут. И Лисив с ужасом понимала, что какая-то часть ее, та самая, что вечно мерзла в одиночестве, уже сделала шаг навстречу по этому мосту. И нет пути назад.
Так начался их странный, немыслимый диалог, диалог, подобного которому не велось, быть может, со времен основания мира. Диалог меж Пульсом и Безмолвием, меж Плотью и Идеей, меж трепетным лепестком и вечной, незыблемой глыбой льда.
Он являлся не каждую ночь, но его приход всегда можно было предугадать по особой, звенящей густоте воздуха, по тому, как свеча в доме Лисив начинала мерцать, словно ее пламя боялось того, что придет извне. Он всегда стоял на одном и том же месте, невидимый страж незримой границы, и его вопросы, рождавшиеся в ледяной пустоте, были подобны ударам скальпеля, вскрывающего живую, трепетную плоть мира, дабы узреть ее сокровенное, часто ужасающее устройство.
– Почему этот побег тянется к свету, даже если свет этот холоден и обманет его? – раздавался его голос в очередную ночь, когда луна, как бледный труп, висела в черном небе.
Лисив, уже ожидавшая его прихода, не вздрагивала. Она стояла, прислонившись спиной к теплому стволу яблони, и смотрела на упрямый росток, пробивавшийся меж камней.
– Он тянется не к свету, – отвечала она, и голос ее звучал устало, но твердо. – Он тянется к жизни. Свет – лишь ее символ. Он слеп в своем стремлении, как слеп во всем. Но в этой слепоте – его сила.
– Сила в слепоте? – переспрашивал он, и в его тоне слышалось то самое холодное любопытство. – Это противоречит логике. Сила – в знании. В предвидении. Я знаю конец этого ростка. Он будет сломлен ветром или будет поглощен холодом. Его стремление бессмысленно.
– Возможно, – соглашалась Лисив, и в ее глазах вспыхивал странный огонь. – Но пока он тянется, он жив. А вы, что знаете все концы, разве вы живы?
Повисала тягостная пауза. Казалось, сама ночь затаила дыхание, ожидая ответа.
– Я – есть, – наконец звучал ответ, лишенный всякой эмоциональной окраски, чистый факт. – Я не нуждаюсь в категориях «жизни» и «смерти». Я постоянство. А постоянство не требует горения.
– Оно требует вечности, – шептала Лисив. – А вечность – это самая страшная тюрьма.
Он не отвечал. Он просто стоял, и его молчание было красноречивее любых слов. Оно было согласием? Отрицанием? Она не могла понять.
В другую ночь его вопрос касался ее самой. Прямо и безжалостно, как всегда.
– Ты ранена. Кровь на твоих руках. Почему ты не исцеляешь себя? Ты же знаешь свойства трав.
Лисив, посмотрела на свои ладони, испещренные свежими царапинами.
– Эти раны… они часть меня. Как шрамы на коре этого дерева. Они память. Если я их исцелю, что останется? Гладкая, безликая кожа?
– Память о боли? – уточнил он, и в его голосе впервые прозвучала какая-то, едва уловимая, напряженность. – Зачем хранить то, что причиняет страдание?
– А вы? – внезапно, с неожиданной для себя самой дерзостью, спросила Лисив. – Вы же сказали, что помните все. Каждый вздох. Каждый конец. Разве в этой памяти нет боли?
На сей раз пауза затянулась так долго, что Лисив уже подумала, не ушел ли он. Но нет, она чувствовала его присутствие, тяжелое и сконцентрированное, как грозовая туча перед разрядом.
– Боль – это процесс, – наконец прозвучал ответ, и голос его казался чуть более… металлическим? Нет, скорее, хрупким, как тонкий лед на краю пропасти. – Я же храню результат. Мгновение после боли. Тишину после крика. Это… иное.
– И вам не жаль тех, чью тишину вы храните? – рискнула она снова, чувствуя, как ее собственное сердце сжимается от этой жестокой наивности.
– Жаль? – он произнес это слово так, будто впервые слышал его. – Жалость – это эмоция. Эмоция – это хаос. Я порядок. Я не испытываю. Я… фиксирую.
Но в этом «фиксирую» впервые прозвучала какая-то неуверенность. Словно великий архивариус, вдруг обнаруживший, что в его безупречном каталоге не хватает одного, самого главного, тома.
Так проходили ночи. Он – вопрошающий, она – отвечающая. Но с каждым разом роли начали смещаться. Его вопросы становились менее аналитичными, более… человечными? Нет, это было не то слово. Они становились более личными. Он спрашивал не только о законах жизни, но и о ее законах. Почему она выбрала этот корень, а не тот? Почему подрезала эту ветвь, а ту оставила? Почему ее кровь, алая и горячая, так отличалась от темной, холодной субстанции, что сочилась из стеблей ее надрезанных трав?
И Лисив, сама того не замечая, начала открываться. Ее ответы становились длиннее, в них проскальзывали обрывки ее собственной, замороженной боли, ее одиночества. Она говорила с ним, как с единственным существом, которое, пусть и не способно понять, но хотя бы слушает. Слушает не осуждая, не шепча за ее спиной «ведьма» или «сумасшедшая».
Однажды, в ночь особенно ясную и холодную, когда звезды сияли с такой жестокой, нечеловеческой яркостью, что казалось, вот-вот проткнут небесный полог, он задал вопрос, от которого у Лисив перехватило дыхание.
– Тот цветок. Алый. Тот, что был тут…– Он прикоснулся рукой к своей грудной клетке. – Почему он больше не здесь?
Лисив, замерла. Рука ее непроизвольно потянулась к тому месту, где зияла пустота. Губы задрожали. Она не могла ответить. Не могла произнести вслух ту страшную ложь, что заставила ее вырвать с корнем собственную надежду. Она лишь покачала головой, и в горле у нее встал ком.
И тогда он совершил нечто немыслимое. Он не повторил вопроса. Не настаивал. Он просто прошептал, и его голос прозвучал так тихо, что его едва можно было отличить от шелеста ночного ветра:
– Я понимаю. Бывают раны, которые нельзя называть. Они слишком… живые.
И в этом «понимаю», в этом «живые», прозвучавших из ледяных уст самого Бесчувствия, была такая бездна невыразимой, чудовищной трагедии, что Лисив почувствовала, как по ее щекам, впервые за долгие годы, медленно и тяжело, покатились слезы. Они не были слезами жалости к себе. Это были слезы сострадания к нему. К этому божеству пустоты, которое вдруг, на мгновение, попыталось нащупать в своей вечной тьме тень человеческого чувства.
Он увидел эти слезы. Она знала, что увидел. Ибо мерцание звезд в глубине его маски вдруг замерло, превратившись в две неподвижные, пристальные точки.
– Не плачь, – сказал он, и его голос снова был лишен всяких оттенков, снова стал гладким и холодным, как поверхность ледника. – Слезы – это вода. Вода замерзает. Лед… ранит.
С этими словами он отступил назад и растворился в ночи быстрее, чем когда-либо.
Лисив, осталась стоять у пустого места, сжимая в окровавленных пальцах ком холодной земли, с лицом, мокрым от слез, которые уже начинали замерзать на ее щеках, словно подтверждая его страшную правоту.
Граница была не просто пересечена. Она была стерта. Он вошел не в ее сад, но в ее душу, и дверь захлопнулась за ним. И теперь оба они были заперты в одной клетке, имя которой – невыразимая, невозможная, обреченная связь. И с этой ночи их диалог из вопроса и ответа превратился во что-то иное, нечто гораздо более опасное. В молчаливое, взаимное узнавание двух одиноких душ на краю пропасти, где одна олицетворяла все, что другая была призвана уничтожить.
Вопросы из-за стены
После той ночи, когда слезы, горячие и соленые, оросили мерзлую землю сада, а слова, оброненные сквозь шиповую стену, проникли глубже, чем любое железо, в самую душу, воздух между двумя собеседниками переменился. Он более не был просто густым от страха и непонимания; теперь он был насыщен чем-то неуловимым, тягучим и опасным, как наркотический дым, поднимающийся от тлеющих углей былых надежд и новых, смутных предчувствий.
Он являлся по-прежнему с приходом сумерек, но теперь его появление не было внезапным. Лисив, чувствовала его приближение загодя, по легкому, едва уловимому ознобу, пробегавшему по спине, по тому, как ветки деревьев начинали чуть заметно дрожать, словно от далекого, подземного толчка. Он занимал свой пост в тени сосен, и его неподвижная фигура была подобна темному кристаллу, вощённому в пейзаж, – инородному телу, которое, однако, уже начало подчинять себе окружающее пространство.
И вопросы его, эти отчеканенные ледяные пули, стали иными. Они более не касались лишь механизма бытия; они начали касаться его сути, его сокровенной, часто болезненной сердцевины.
В ту ночь, когда ветер выл, как стонущая душа над свежей могилой, Его голос прорезал тишину оранжереи, где под стеклянным колпаком теплилась жалкая пародия на лето.
– Ты говоришь, что боль – это память, – раздался он, и слова Его, лишённые тепла, казалось, заставляли кристаллизоваться пар у неё на губах. – Но я видел, как ты причиняешь боль этим зелёным побегам, обрезая их. Ты убираешь лишнее, дабы они росли лучше. Объясни этот парадокс: как сознательное причинение страдания может служить жизни?
Лисив, не обернулась. Она сидела на низкой скамье, в руках её зажат был смятый лист бумаги – письмо с гербовой печатью, что прибыло несколько месяцев назад и выжгло её душу дотла. «Пал смертью храбрых…» Эти слова горели в её памяти ярче любого огня, выжигая надежду, планы, будущее. Она смотрела на свои руки, на землю под ногтями – землю, которая теперь была её единственным уделом.
– Есть боль, которая убивает, – прошептала она, и её голос был тих, как шелест замерзающих листьев. – Она приходит извне, как тот ветер. Она ломает и замораживает. А есть боль, которую ты причиняешь себе сам… или этому растению. Она очищает. Как огонь… огонь может спалить дом, а может отогреть озябшие руки у костра. Когда я подрезаю ветвь… это боль милосердная. Она отсекает то, что уже обречено, что тянет соки и не даёт жить целому. Отсекает надежду… чтобы можно было жить дальше. Если это вообще можно назвать жизнью
Она говорила больше с собой, чем с ним, изливая ту пустоту, что разъедала её изнутри.
– Милосердная боль, – повторил он, и в его голосе, всегда ровном и безжизненном, послышались обертоны чего-то, напоминающего жадный интерес учёного, нашедшего невиданный экземпляр. – Интересная категория. Для меня боль есть лишь факт. Констатация. Начало конца или его кульминация. Ты же утверждаешь, что можно существовать внутри неё, как рыба в воде? Что можно сделать боль своим домом?
Лисив, медленно подняла голову. Её глаза, подёрнутые пеленой неизбывной тоски, встретились с его незрячим, но всевидящим взором.
– Да, – выдохнула она. – Можно. Когда снаружи – только холод и белизна, а внутри – только эта жгучая пустота… тогда боль становится единственным, что напоминает тебе, что ты ещё не совсем умер. Иногда именно внутри неё… чувствуешь себя наиболее живой. Потому что больше чувствовать уже нечего.
Он молчал. Молчал так долго, что казалось, сама ночь в долине сгустилась и застыла вокруг них. Снег за окном продолжал падать, беззвучно хороня мир под белым саваном. Казалось, Он вносил поправку в свой бесконечный, безжалостный каталог мироздания, создавая новую, невероятную и тревожную рубрику: «Боль как среда обитания. Отчаяние как форма существования». И эта хрупкая девушка, затерянная в снегах, с письмом о смерти в руках и садом умирающих трав, была живым, дышащим доказательством этой ереси. И он, холодный и неумолимый, смотрел на неё с тем вниманием, с каким смотрят на уникальный, обречённый на гибель цветок.
И голос Его возник из самой этой тишины, не нарушая, а усугубляя ее, словно ледяное лезвие, вонзившееся в теплую плоть мира.
– Ты хранишь память в этих шрамах, что бороздят твои руки, словно русла высохших рек, – произнес Он, и каждый слог был отчеканен и холоден, как монета с изображением смерти. – Я же храню память… в Себе. Всякую. От вздоха первого живого существа до последнего стука угасающего сердца. Так в чем же разница? В чем разница между твоей памятью и моей?
Вопрос сей, простой и бездонный, как пропасть, заставил Лисив содрогнуться всем телом, будто от прикосновения обнаженного нерва. Она медленно отвела взор от собственных рук и посмотрела на него, и в глазах ее плескалась не просто печаль, а целая буря человеческого смятения.
– Мои шрамы…– начала она, и голос ее дрогнул, подобно листу на осеннем ветру. – Это не просто следы. Это – моя личная память. Она принадлежит лишь мне, и никому более. Она жива, ибо я ее чувствую, она пульсирует во мне болью, которая то затихает, то обостряется. Она непостоянна: она тускнеет с годами, обрастает плотью забвения, но никогда не исчезает вовсе. Она часть той раны, что зовется жизнью. А ваша память…
– Моя память абсолютна, – завершил Он ее мысль с той леденящей душу точностью, что не оставляет места ни сомнениям, ни надежде. Словно гигантский гранитный обелиск, на котором высечена вся история мироздания. – Она неизменна. Ни один атом, ни одна пылинка не сместится в Моих записях. В ней нет ни капли жизни. В ней – лишь факт. Свершившееся. Приговор, который не подлежит ни обжалованию, ни милосердию.
И тогда, собрав всю свою немощную отчаянием отвагу, она, эта хрупкая тварь, чей век – лишь миг в Его вечности, рискнула бросить вызов самому понятию Бытия.
– И разве… разве вам не одиноко в этом бесконечном, безмолвном музее фактов? В этих залах, где нет ни тепла, ни дыхания, ни шепота?
На сей раз пауза, предшествовавшая ответу, была недолгой, но от этого не менее весомой. Казалось, сама вечность на мгновение задержала дыхание.
– Одиночество, – изрек Он, – Есть чувство. Я же не знаю чувств. Я не ведаю ни тоски, ни радости. Я лишь констатирую состояние: Быть Единственным. Это не хорошо и не плохо. Не сладко и не горько. Это – есть. Подобно тому, как есть закон тяготения или как есть неизбежность конца.
Но в этом ледяном, безоценочном «есть», в этой космической отстраненности, Лисив с предельной ясностью, от которой сжалось сердце, услышала отзвук той самой ужасающей вечности-тюрьмы, о которой она говорила ранее. Она узрела не просто безличную силу, но бесконечное, лишенное окон и дверей заточение в самом себе. И в этот миг вечный владыка небытия предстал перед ней не всесильным тираном, но самым несчастным из узников, приговоренным к бессрочному заключению в собственном бессмертии.
И эта мысль – мысль о нем как о вечном узнике в чертогах собственного всесилия – повисла в воздухе меж ними, тяжелая и неразрешимая. Она отозвалась в Лисив глубокой, щемящей жалостью, столь же безрассудной, сколь и неизбежной. Жалость эта была тихой, как шепот опавшего листа, но, казалось, именно ее неприметный шорох нарушил безмолвную гармонию Его отчужденности.
Прошли дни, а может, и недели – время в этом месте текло иначе, подчиняясь не движению светил, а ритму их странных бесед. И вот, в одну из тех глухих ночей, когда луна, словно выцветший пергамент, была скрыта за пеленой высоких облаков, Он вновь заговорил. Голос его, обычно прямой и острый, как клинок, на сей раз звучал приглушенно, с почти человеческой недоуменной интонацией.
– Твои растения, они имеют корни, – произнес Он, и слова его, падая в тишину, казалось, прорастали в ней сами, подобно тем самым корням. – Они вросли в эту землю, пьют ее соки, цепляются за нее в бурю. Они привязаны к этому месту. Ты… ты их корень, их источник и их хранитель. А что…» Он запнулся, и это было столь же неестественно, как если бы камень испустил вздох. – Что является моим корнем? К какой почве я привязан?
Вопрос сей, столь простой в своей основе и столь бездонный в своих последствиях, прозвучал с такой внезапной, обнаженной беззащитностью, что у Лисив сердце сжалось в груди, словно от резкой физической боли. Она медленно обернулась, и в полумраке впилась взглядом в ту единственную мерцающую точку его маски, что служила подобием очага в этом царстве холода.
– Я… я не знаю, – честно ответила она, и голос ее дрогнул от смешения страха и сострадания. – Я никогда не думала об этом. Возможно… ваш корень в том самом ничто, из которого вы пришли. В первоначальной пустоте. В том неумолимом законе, который вы исполняете. Он… он и есть ваша почва.
– Закон, – возразил он с внезапной резкостью, в которой прозвучала не обида, но холодная ясность разума, – Не может быть корнем. Корень питает. Дает силу, позволяет расти, даже если рост сей направлен в темноту. А закон… закон лишь ограничивает. Сковывает. Определяет границы. Он – не почва, он – стены темницы. Значит ли это, что у меня нет корня? Что я – растение, висящее в пустоте, не имеющее связи ни с землей, ни с небом?
В его голосе не было и тени самосожаления – лишь упрямое, настойчивое, почти отчаянное стремление докопаться до истины, даже если эта истина окажется пропастью, готова ли он низринуться в нее.
– Все… все имеет свой корень, – неуверенно, почти вопросительно сказала Лисив, сама пытаясь ухватиться за эту мысль, как за спасительную соломинку. – Даже ветер, не знающий преград, рождается где-то, в разнице тепла и холода. Даже смерть… – она запнулась, но продолжила, – даже смерть, должно быть, имеет свое начало, свой исток, свою… причину бытия.
– Начало, – прошептал он, и это слово на его устах прозвучало как незнакомый, диковинный плод, чей вкус был одновременно и горьким, и сладким. – У меня нет начала. Я был всегда. А то, что было всегда… то, что существует вне времени, не имеет корня, ибо корню нужно время, чтобы прорасти. Оно… – и здесь голос его вновь обрел ту неумолимую мощь, что сокрушала миры, – Оно и есть корень для всего остального. Я – та изначальная точка, из которой произрастает само время.
В этой фразе, короткой и безоговорочной, вновь, словно сквозь трещину в льдистой скорлупе, проглянула его подлинная, божественная и ужасающая суть. Он был не просто стражем или палачом. Он был одним из столпов, на которых зиждилось мироздание. И этот вечный, незыблемый столп, впервые за всю бесконечность своего бытия, усомнился в прочности собственного фундамента.
И эта мысль – мысль о нем как о вечном узнике в чертогах собственного всесилия, о фундаменте, лишенном опоры, – повисла между ними тяжелым свинцовым покрывалом, пропитанным скорбью и недосказанностью. Прошли дни, наполненные лишь воем метели за тонкими стеклами, да мерным тиканьем старых часов в доме – звуком, который Лисив слышала даже в полной тишине, словно отсчет последних секунд своей прежней жизни.
Он являлся реже, и каждый его визит был отмечен не прежней холодной уверенностью, а тягостным, почти мучительным раздумьем. Казалось, вопрос о корнях, который она, сама того не ведая, посеяла в его сознании, теперь прорастал, разрывая каменистую почву его сущности. Лисив, чья собственная душа была выжжена дотла, с изумлением обнаружила, что способна испытывать нечто, помимо собственной боли, – острую, пронзительную жалость к этому всемогущему и вечно одинокому существу.
И вот, в ночь, когда луна, словно бледный, выцветший герб на знамени ночи, изредка проглядывала сквозь рваные облака, он предстал перед ней вновь. Но на сей раз в нем не было ни величия, ни отстраненности. Он стоял, безмолвный, погруженный в созерцание ее склоненной фигуры, и, когда заговорил, голос го утратил привычную металлическую твердость, став глухим, приглушенным, почти человечным в своем смятении.
«Долгие часы», -начал он, и слова его, казалось, рождались с огромным трудом, пробиваясь сквозь толщу вечного молчания, – «я взирал на тебя. И я прозрел нечто, ускользавшее от меня прежде. Когда я смотрю на тебя, я вижу не только свет жизни, тот упрямый огонь, что теплится в твоей груди, вопреки стуже и отчаянию. Я вижу… тень. Глубокую, как те пропасти, что зияют меж корней древних кедров, неподвластных времени. Эту тень отбрасывает отсутствие. Отсутствие того цветка, что некогда цвел в твоем саду. Но…» – Он замолчал, и в паузе слышалось напряжение всей Его непостижимой мысли, – «была ли сия тень там изначально, сокрытая в глубине твоей души? Или же она явилась лишь тогда, когда свет погас, обнажив ту тьму, что дремала в ее основании?»
Лисив, замерла на месте, словно пораженная громом среди ясного, морозного неба. Он увидел не просто ее горе, не просто свежую рану от утраты. Он увидел ее душу в ее цельности – душу до и после катастрофы. Он различил в ней не боль, но форму отсутствия, саму геометрию пустоты, оставшейся после того, как из мира был вырван самый главный цветок.
– Тень… – с огромным усилием выдавила она, чувствуя, как подступают к горлу давно не проливаемые слезы, – Была всегда. Но свет… свет был так ярок, так ослепителен, что она была незаметна, она таилась у самых ног, смиренная и безгласная. А когда свет исчез… когда его не стало… тень поднялась, поглотила все, стала единственной реальностью. Она стала… всем, что у меня осталось.
– Интересно, – прошептал он, и в этом шепоте звучало не просто интеллектуальное любопытство, а нечто более глубокое, почти потрясение. – Значит, я вижу не просто тебя, твою плоть и твой дух. Я вижу… твое отсутствие. Ту самую пустоту, что ты носишь в себе, как носят во чреве дитя. Как я ношу в себе свою… полноту небытия. Свою вечную, неизменную завершенность.
И в этот миг, на краю света, у терновой ограды, затерянной в снежной пустыне, между ними произошло нечто невозможное, не поддающееся ни законам природы, ни догматам богословия. Они – одинокая женщина, чья душа была садом, опустошенным утратой, и одинокое божество, чья суть была переполнена вечным покоем небытия, – поняли друг друга. Не умом, не логикой вопросов и ответов, а каким-то иным, глубинным, почти физическим чувством. Они увидели в друг друге жуткое, искаженное зеркало собственного одиночества.
Лисив, почувствовала, как последние стены защиты, возведенные вокруг ее сердца, рухнули с тихим, подобным падению снега, гулом. Этот диалог более не был битвой, не был обменом метафизическими концепциями. Это была странная, мучительная, невозможная исповедь двух антиподов, нашедших, наконец, общий язык в немом языке пустоты и тени.