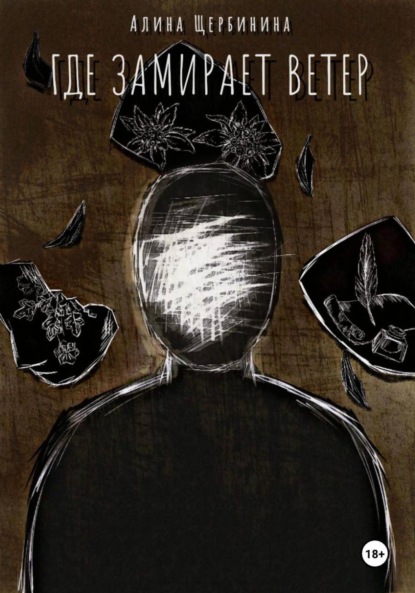- -
- 100%
- +
– Да, – сказала она, и в этом одном слове была вся ее усталость, все ее горе, вся ее опустошенность и какая-то новая, страшная, рождающаяся в муках надежда. – Мы оба носим в себе пустоту. Только моя – от потери, от того, что было отнято. А ваша… от изначального, неизбывного избытка того, чего нет и не может быть.
Он не ответил. Он просто стоял, недвижимый, и мерцание звезд, отражавшееся в маске его личины, казалось, замедлилось, задумалось. А потом, не сказав больше ни слова, не изрекши ни прощания, ни благословения, он растворился в ночи, как тает на ветру дым от угасшей свечи. Но на сей раз он оставил после себя не просто леденящий холод, а нечто неизмеримо более тягостное и щемящее – чувство незавершенности, предчувствие неотвратимого. Ощущение, что этот странный, заочный диалог, этот танец двух одиноких душ на краю пропасти, не может длиться вечно. Что однажды тишине, царящей между ними, придется сойти со своего поста и сделать шаг вперед – в мир звуков, в мир жизни, в мир боли и страсти, где решения требуют жертв, а откровения влекут за собой роковые последствия. И этот шаг, как смутно понимали они оба, будет стоить им дороже, чем вся вечность, что он прожил, и вся жизнь, что оставалась у нее.
Но не одни лишь слова витали в ледяном воздухе меж страждущей душой и воплощенным безмолвием. Сама природа, этот великий соучастник человеческих страстей, начинала откликаться на их диалог, вплетая в него свои зловещие и прекрасные голоса.
В одну из ночей, когда земля стонала от мороза, а дыхание Лисив превращалось в облако, готовое застыть и упасть к ее ногам хрустальной пылью, он не задал вопроса. Молчание его было особенно многоговорящим. Он просто стоял, поглощая своим черным плащом скудный лунный свет, и Лисив почувствовала, как воздух вокруг нее начинает менять свою структуру. Он не просто холодел – он густел, становился вязким, почти осязаемым. И тогда она увидела: тончайшая, почти невидимая паутина инея начала медленно спускаться с ветвей шиповника на ее сторону изгороди. Это не было похоже на обычный мороз. Иней ложился причудливыми, математически точными узорами, образуя сложные кристаллические структуры, подобные тем, что можно увидеть на замерзшем оконном стекле, но несравненно более совершенные. Каждая снежинка, падавшая теперь с неба, замирала в воздухе, словно попадая в невидимую ловушку, и начинала вращаться, выписывая в пространстве идеальные геометрические фигуры.
Лисив, протянула руку, и на ее ладонь упала снежинка – не шестиконечная звезда, а крошечный, совершенный кристалл в форме розы, с лепестками, прожилками и даже каплей застывшей воды в сердцевине, подобной росы. Она была так прекрасна, что захватывало дух, и так мертва, что по коже пробегала дрожь.
– Зачем? – только и смогла выдохнуть она, чувствуя, как ледяная красота медленно тает на ее теплой коже, оставляя лишь влажный след.
– Чтобы ты увидела, – прозвучал его голос, и в нем не было торжества, лишь спокойная констатация, – Что я могу творить. Что я могу придать миру форму. Совершенную и неизменную. Пусть и недолговечную в твоем царстве распада.
Это не был дар. Это была демонстрация. Демонстрация силы иного порядка, силы, противостоящей самому хаосу жизни.
В другую ночь поднялся ветер, неистовый и злой, принявшийся рвать слабые побеги и срывать с деревьев последние листья. Лисив в отчаянии, смотрела, как гибнет ее малый мир, как гнутся под напором стихии ее колокольчики и срываются лепестки мяты. И тогда он, недвижный страж, не сделав ни единого жеста, просто… присутствовал. И ветер, бушевавший мгновение назад, начал терять свою ярость. Он не стих сразу, но словно наткнулся на невидимый барьер, огибая сад стороной, образуя странный, затишный купол над этим клочком земли. В саду воцарилась неестественная, гробовая тишина, нарушаемая лишь трепетным шепотом испуганных листьев.
– Почему? – спросила Лисив, дрожа от холода и потрясения. – Зачем ты это сделал?
– Ты испытывала боль, – ответил он просто, как будто объясняя очевидную аксиому. – Я могу остановить то, что причиняет боль. Ветер. Холод. Дыхание. Сердцебиение.
Эти последние слова повисли в воздухе леденящей угрозой и обещанием одновременно. Впервые он явил ей не просто любопытство, а свою сущность – силу, способную укротить саму стихию, силу, простирающуюся до самых основ бытия, до последнего вздоха живого существа.
– Не делай так больше, – сказала она, и голос ее обрел неожиданную твердость, рожденную из самого страха. – Ветер – это тоже жизнь. Даже если он ломает ветви. Ты не можешь остановить жизнь, чтобы защитить ее. Это… кощунство.
– Все, что ты называешь жизнью, есть цепь противоречий и страданий, – заметил он без тени осуждения. – Я лишь предлагаю альтернативу. Покой.
Их диалоги, эти ночные бдения у шиповой стены, не могли остаться совершенно незамеченными в деревне, погруженной во мрак и страх. Гринт, кузнец, чья физическая мощь была столь же несокрушимой, как и его суеверный ужас перед неведомым, стал невольным свидетелем одной из их бесед. Возвращаясь поздно из Своей кузницы, он увидел сквозь редкую чащу деревьев высокую черную фигуру и бледное, как полотно, лицо Лисив, обращенное к нему. Он не расслышал слов, но видел саму сцену – немыслимую, противоестественную. Женщина, от которой шарахались все жители, стояла в ночи и без страха взирала на воплощение тьмы. А та, в свою очередь, внимала ей.
На следующий день он пришел к Лисив. Не в сад – он не смел и помыслить переступить его проклятую границу, – а остановился у калитки. Его лицо, обычно угрюмое и уверенное, было бледно.
– С кем ты говорила прошлой ночью? – выпалил он, не здороваясь.
Лисив, вышедшая на скрип калитки, посмотрела на него своими бездонными глазами.
– С ветром. – ответила она спокойно.
Гринт отступил на шаг, суеверно шепча. – Не с ветром, женщина! Не с ветром! Я видел! Это был… ОН!
– А разве он – не часть этого ветра? – тихо спросила Лисив. – Не часть холода и ночи?
Кузнец не нашелся что ответить. Он лишь покачал головой, и в его глазах читался не просто страх, а нечто худшее – разочарование. Разочарование в той, что, как он думал, была хоть и странной, но своей, частью их общего несчастья. Теперь же она оказалась по ту сторону. По ту сторону шиповой стены, в мире, где возможны разговоры с самой смертью.
С той поры шепот в деревне стал еще гуще. Если раньше на Лисив смотрели как на юродивую или ведьму, то теперь в ее образе стали проступать черты нечто большего – посредника, жрицы, возведшей страшные и немыслимые мосты между миром живых и царством вечного покоя. И этот мост, хрупкий и призрачный, протянутый через стену, начинал тревожить не только людей. Казалось, сама долина, веками пребывавшая в оцепенении, начинала просыпаться от своего тяжкого сна, чувствуя, как по ее телу, по ее древним ледникам и каменным жилам, пробегает странная, доселе неведомая дрожь – предвестие грядущей бури, семена которой заботливо, сам того не ведая, сеял незваный гость, задававший свои бесконечные вопросы.
6. Кто
Если бы сама Вечность могла испытывать нетерпение – а кто возьмется утверждать, что это не так? – то именно его, это тяжкое, накапливающееся напряжение, ощущала бы теперь долина. Диалоги, что велись сквозь частокол ветвей и колючек, более не могли удовлетворять ни одну из сторон. Вопрошающий достиг предела познания через посредство слуха; отвечающая же, сама того не сознавая, истосковалась по-иному, более весомому доказательству реальности того, кто стоял по ту сторону. Слова, даже самые пронзительные, есть лишь тени деяний; и тени эти становились все гуще, все беспокойнее, жаждая обрести плоть.
В ночь, когда луна, круглая и бледная, как лицо утонувшей девы, висела в беззвездной, словно вычерненной сажей, выси, случилось неизбежное. Тишина, что обычно предваряла его появление, на сей раз была не просто отсутствием звука, но активным, почти осязаемым веществом, давящим на уши и заставляющим сердце биться в тревожном, прерывистом ритме. Лисив, сидевшая на корточках у корней старого дуба, где росли особенно нежные, синие колокольчики, почувствовала это давление еще до того, как увидела его. Она медленно подняла голову, и ледяная рука сжала ее сердце.
Он стоял внутри сада.
Не за изгородью. Не в тени сосен. Он был здесь, всего в двадцати шагах от нее, и его присутствие перестало быть призрачным. Оно обрело плотность, вес, физическую реальность, столь же неоспоримую, как камень под ногами. Его плащ казался еще чернее и гуще на фоне серебряного лунного света, заливавшего поляну. Он не двигался, и от этой неподвижности веяло чем-то первозданным и грозным, как от внезапно замершей лавины, что вот-вот сорвется вниз, сокрушая все на своем пути.
Но на сей раз в его позе, сквозь привычные мощь и величие, проглядывала странная, почти человеческая неуверенность, словно дикий зверь, впервые ступивший в жилище человека и ощутивший под своими лапами не землю, а хрупкие доски. Пальцы его тенистых рук, скрытых в складках плаща, сжимались и разжимались с едва уловимым, но неумолимым ритмом, подобным тиканью часов на башне, отсчитывающих последние мгновения перед свершением неотвратимого.
Лисив, не шевельнулась. Она не вскрикнула. Глаза ее, огромные и темные, расширились, но в них читался не столько ужас, сколько величайшее, предельное напряжение всех ее душевных сил, собранных в единый, стальной комок воли. Она понимала, что наступил решающий момент, тот миг, когда абстрактные понятия «жизнь» и «смерть» сошли со своих небесных и подземных тронов, чтобы сойтись в поединке на этой маленькой, затерянной в снегах, арене. Стена, отделявшая ее мир от его мира, была не просто нарушена – она была растоптана. Теперь все зависело от того, что произойдет в следующие несколько мгновений.
Он сделал шаг. Не тот призрачный, исчезающе-появляющийся шаг, каким он двигался прежде, будучи лишь проекцией. Нет. Это был настоящий, тяжёлый шаг, от которого дрогнула земля, и трава под его невидимой стопой мгновенно почернела и смёрзлась, покрывшись толстым слоем инея, ложащегося зловещими, геометрическими узорами. Второй шаг. Третий. Он приближался медленно, неотвратимо, как сама судьба, и с каждым его движением воздух вокруг становился все гуще и холоднее, звенел на разные лады, словно тысячи хрустальных бокалов, по которым водят влажным пальцем.
И тогда, когда между ними оставалось не более десяти шагов, Он остановился. Маска, это чёрное зеркало в пустоте, была обращена прямо на неё. Голос, когда он заговорил, звучал иначе – не вибрируя в воздухе, а исходя как будто из самой его сути, глухой, сбивчивый, полный какого-то нечеловеческого, леденящего кровь напряжения.
– Я… слушал, – начал он, и каждое слово было подобно глыбе льда, падающей в бездонный колодец. – Твои слова. Они… странные. Они жгут. Как лёд, который обжигает. – Он сделал паузу, словно подбирая выражения для невыразимого, для того, что не имело имени в его языке. – Ты говоришь о жизни. О тепле. О росте. Я… вижу это. Но я не понимаю. Как песок сквозь пальцы. Я могу удержать гору, но не могу удержать тень, отбрасываемую этим цветком.
Лисив, молчала, впитывая каждое слово, каждый оттенок этого голоса, в котором впервые появились трещины, подобные тем, что проходят по вековому леднику под напором невидимой силы.
– Ты… пахнешь землёй, – продолжил он, и в его тоне прозвучало не отвращение, а всё то же мучительное, непонимающее изумление. – И солнцем. И… чем-то ещё. Чем-то, чего я не знаю. Ты поливаешь цветы, и они растут. Ты прикасаешься к дереву, и оно… шепчет тебе. Как? Каким законом? Я знаю все законы тяготения, распада. Но я не знаю закона, по которому твое прикосновение рождает шепот.
Он сделал ещё один, совсем короткий шаг вперёд. Холодный воздух тяжёлой, невидимой волной покатился от него, заставляя Лисив содрогнуться всем телом, но она устояла, впившись босыми ногами в мерзлую землю.
– Я могу остановить время, – сказал он, и в этих словах не было хвастовства, лишь констатация столь же простая, как «вода мокра». – Я могу превратить всё в вечность. Я могу взять душу и… сохранить её. Но я не могу заставить ветку распуститься. Я не могу сделать так, чтобы колокольчик… звенел.
В этих словах, оброненных с леденящей, безжалостной простотой, заключалась вся трагедия его бытия. Он был Владыкой Вечного Покоя, Хранителем всех Концов, но он был бессилен перед тайной Вечного Движения, которое зовётся жизнью. Он мог заморозить реку, но не мог заставить ее течь. Он мог остановить сердце, но не мог заставить его биться. И в этом осознании, медленно пробивавшемся сквозь толщу его божественного самовосприятия, была бездна такого отчаяния, перед которым меркло любое человеческое горе.
И вот тогда, охваченная внезапным, острым, почти безумным порывом – порывом не страха, а невыразимой жалости и отчаянной попытки достучаться, бросить вызов самой сути этого непонимания, – Лисив поднялась с земли. Она выпрямилась во весь свой невысокий рост и, преодолевая ледяное сопротивление воздуха, сгустившегося, как желе, шагнула ему навстречу. Всего один шаг. Но этот шаг был вызовом, поступком, актом веры в то, что даже перед лицом абсолютного ничто можно и должно отстаивать право на свое хрупкое, трепетное бытие.
И она задала вопрос. Тот самый вопрос, который висел между ними с момента его первого появления, вопрос, на который у него, быть может, не было ответа, ибо он никогда не задавался им самому себе.
– А ты? – голос её прозвучал тихо, но с такой внутренней силой, что звёзды в глубине Его маски дрогнули, а воздух звонко затрещал. – Кто ты?
Повисла тишина. Но не та благоговейная тишина, что воцаряется в соборе после отзвучавшей мессы, и не тревожная тишина леса, чутко прислушивающегося к шагам хищника. Это была тишина иного порядка – тишина до начала времен и после их конца, тишина абсолютного вакуума, в котором тонут и свет, и звук, и сама мысль. Казалось, вселенная, затаив дыхание, ждала ответа на вопрос, который никогда прежде не дерзал родиться в человеческом сознании и достигнуть слуха того, кто стоял по ту сторону бытия.
Маска оставалась неподвижной, но сама ее неподвижность стала вдруг звенящей, напряженной, подобной поверхности воды за мгновение до того, как ее пронзит падающее тело. Мерцание звезд в ее сокровенной глубине – тех самых, что были похожи на заблудшие души в космическом мраке – замедлилось, затем бешено закружилось, словно попав в водоворот неведомой силы, чтобы вновь замереть в смятении. Казалось, неведомый механизм, миллионы лет работавший с безупречной точностью, вдруг дал сбой, и шестеренки вечности, скрежеща, застыли в нерешительности.
– Я был всегда, – наконец прозвучал ответ. Голос был лишён не только эмоций, но и каких бы то ни было обертонов; это был голос констатации геологического факта, звук падающего в бездонный колодец камня. – Я – тот, кто забирает. Я конец всякого пути, замок на последней двери. Я тишина, что ложится на землю после последнего крика. Я форма, из которой навеки ушло содержание. Я – сама память, что стирает все прочие воспоминания.
Лисив, медленно покачала головой, и черные волосы ее, отливая в обманчивом лунном свете синевой трупа, колыхнулись, словно траурные знамена ночного моря.
– Нет, – сказала она, и ее голос, тихий, но отчетливый, резал ледяную гладь молчания, как сталь. – Это – что ты делаешь. Это – перечень твоих функций, сколь бы величественны они ни были. Ты назвал мне свою профессию, но не назвал своего имени. Я спрашиваю не о роли, которую ты исполняешь. Я спрашиваю об актере. У механизма есть функция. У реки – течение. У камня – форма. Но у них, как ты верно заметил, нет сути. Есть ли она у тебя? Или ты – лишь самый совершенный механизм из всех существующих?
Он отступил на шаг. Впервые за все время он отступил. Это было почти незаметное движение, но в контексте Его вечной незыблемости оно было сродни смещению континентов, землетрясению в самых основах мироздания. Земля, там, где ступала его нога, не просто чернела – она обращалась в мелкую, пыль.
– Кто… я? – Он повторил ее вопрос, и в его голосе, этом орудии констатации фактов, впервые прозвучала неподдельная, животрепещущая растерянность, диссонирующая с его исполинским, внушающим ужас обликом. – Я есть. Как земля. Как небо. Как закон, что приковывает все сущее к его участи. Я необходимость. Я неотвратимость. Я финал.
– Нет, – тихо, но с непреклонностью воды, точащей гранит, возразила Лисив. – Земля – не просто есть. Она рождает жизнь в своих недрах и на своей поверхности. Небо – не просто есть. Оно дает нам свет, дождь, воздух для дыхания. Закон каков бы он ни был – это не конец, а связь, сила, что сплетает в единое целое. А ты… ты просто есть, как болезнь, как проказа на теле вселенной. Но почему? Зачем? Что ты чувствуешь, когда обрываешь последнюю нить? Не думаешь – чувствуешь! Что происходит в той бездне, что ты зовешь собою, когда твой взор, лишенный зрения, останавливается на чем-то, чего ты не можешь взять, потому что не понимаешь? Что шевелится в тебе, когда ты видишь?
Он замер. Его плащ перестал колыхаться, скованный внезапно наступившим мраком, еще более густым и тяжелым, чем прежде. Он стоял, словно громом пораженный этими простыми, почти примитивными для его вселенского самосознания вопросами. Вся его многовековая, незыблемая уверенность в своей природе, в своем праве и предопределенном месте в иерархии бытия, дала трещину, подобную той, что расходится по поверхности ледника от единственного, отчаянного крика. И из этой трещины хлынул свет осознания собственного несовершенства.
– Я не должен чувствовать, – прозвучал наконец сбитый, прерывистый ответ, словно ломающийся под непосильной тяжестью механизм. – Чувство – это хаос. Хаос – это ошибка. Я инструмент. Я функция. Я.. завершение. Я итог. Я приговор, не нуждающийся в эмоциях судьи.
– Но ты пришел сюда – не унималась Лисив, и ее голос внезапно обрел металлическую твердость, рожденную из странной смеси жалости, отчаяния и леденящего ужаса. – Ты не просто наблюдал из своей вечности. Ты пересек черту. Ты задаешь вопросы. Ты часами слушаешь звон этих колокольчиков, словно пытаясь разгадать мелодию, партитуру которой тебе не дано прочесть. Ты хочешь понять. Разве функция задает вопросы? Разве инструменту, будь он даже из чистого адаманта, интересно, почему колокольчики плачут? Разве итог, конечная сумма, стремится познать начало, ту самую единицу, с которой все началось? Твое существование, твое присутствие здесь – это вопиющее противоречие твоей же собственной природе!
Он не ответил. Он отступил ещё на шаг, и на сей раз это было откровенное, почти паническое движение. Лунный свет, холодный и беспристрастный, упал на его маску, и Лисив показалось, что в ее абсолютной, поглощающей все свет черноте, появились тончайшие, почти эфемерные трещинки – не физические, а словно бы сама субстанция небытия, из которой она была соткана, не выдержала чудовищного напряжения и начала дробиться изнутри, не в силах более содержать в себе всю невыносимую тяжесть вечности и внезапно обретенного сомнения.
– Кто ты? – уже шепотом, полным не только настойчивости, но и какой-то пронзительной, почти материнской боли, повторила она. В этом шепоте была жалость к тому, кто никогда не знал жалости, и ужас перед тем, что она, сама того не желая, творила – низвергала бога в бездну собственного неведения.
Он поднял свою руку – сгусток подвижной тени и концентрационного холода, не отбрасывающий тени, – и посмотрел на нее, словно видя впервые, с мучительным усилием пытаясь найти на ней ту самую черту, что отделяет бездушный инструмент от существа, пусть даже и божественного. И в этом жесте было столько потерянности, что Лисив почувствовала, как у нее заходится сердце, сжимаясь в ледяной комок.
– Я не знаю, – прошептал он. И в этом шепоте, едва слышном, словно доносящемся из-за толщи веков, прозвучала такая бездна изумления, первобытного страха и полной, абсолютной растерянности, что воздух вокруг, казалось, застыл, превратившись в алмаз от ужаса.
Это было страшнее любой угрозы, любого проявленного могущества. Это было крушение. Падение бога, осознавшего, что он не знает, кто он. И в этой внезапно разверзшейся перед ним внутренней пустоте, более ужасной, чем все внешние пустоты мироздания, родилось не чувство, нет – нечто куда более примитивное, слепое и разрушительное. Ненасытная, всепоглощающая жажда. Жажда заполнить эту зияющую пропасть в самом себе. И его бездушный, тяжелый взгляд, помутневший от смятения, снова упал на Лисив, но теперь в нем читалось не просто холодное любопытство к феномену, а жадное, хищное, ненасытное желание обладать. Обладать тем, что было полной ему противоположностью, тем, что имело суть, тем, что знало, кто оно, тем, что могло чувствовать и страдать. Если он не мог постичь эту жизнь, эту теплоту, эту боль, эту трепетную, ускользающую сущность, то он мог взять ее. Присвоить. Запечатать в вечность, как редчайший экспонат в своей коллекции небытия. Вморозить в лед своего существа. И тогда, быть может, эта невыносимая, новорожденная пустота внутри него хоть на мгновение, хоть на миг будет заполнена, утолена, уничтожена.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.