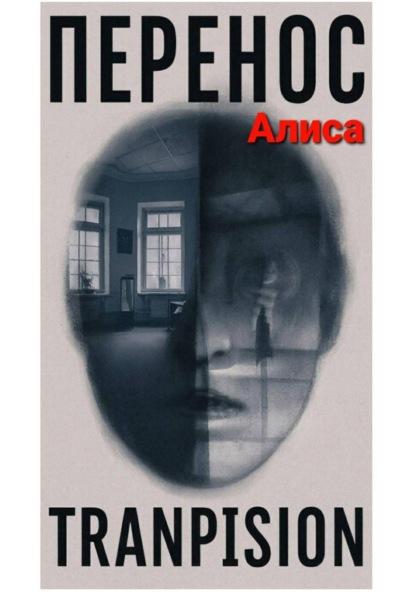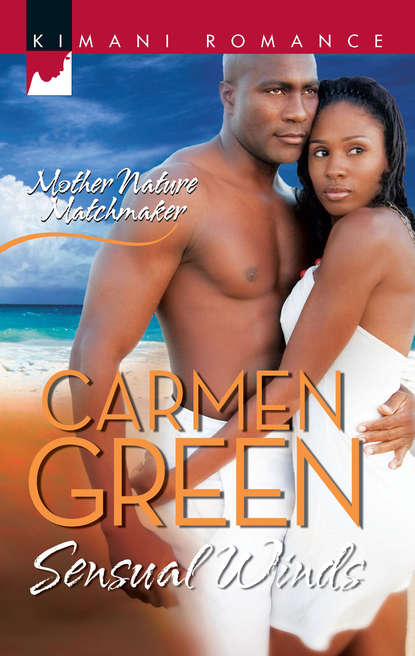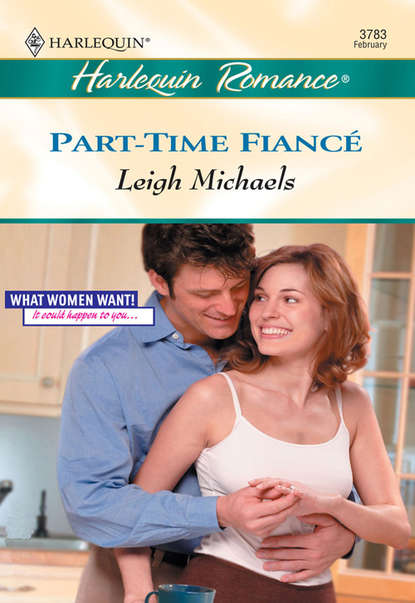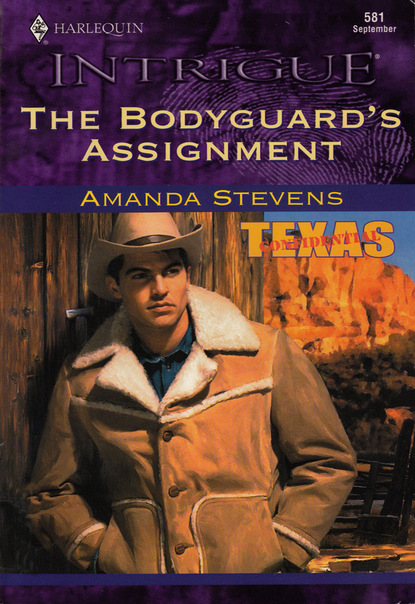- -
- 100%
- +

Пролог
Звук – это первое, что я ставлю на паузу.Не голос клиента, не скрип кресла, не гул города за тонированным окном. А внутренний шум. Тот самый, что состоит из микроволн сомнений, статики усталости и ровного, фонового гула – убеждения, что я всё контролирую.Контроль – это дыхание. Вдох: я принимаю решение. Выдох: я его реализую. Всё просто. Всё по схеме.
Сегодняшний выпуск подкаста «Рацио» был особенно удачным. Я разбирал дело так называемого «Поэта-душителя» – претенциозного негодяя, который оставлял с жертвами цитаты из Бродского. Публика обожает, когда я с холодной яростью хирурга вскрываю эту чушь. «Это не комплекс бога, дорогие слушатели, – сказал я тогда, и голос мой в наушниках звучал как скрежет стали по льду, – это банальная схема избегания социального поражения, приправленная культурным позёрством. Он не бог. Он неудачник с хорошим подбором цитат в заметках на телефоне».
Комментарии лились рекой: «Стрельников как всегда в яблочко!», «Жёстко! Но это правда», «Психологи-сопливики рыдают в своих кабинетах». Я отключил монитор. Мне не нужна их любовь. Мне нужен был факт их внимания. Подтверждение, что мой алгоритм работает. Что хаос человеческой низости и глупости можно разложить по полочкам, пронумеровать и обезвредить логикой.
Мой ассистент Катя, девушка с лицом идеально отполированного камня, постучала и вошла, не дожидаясь ответа. Мы понимали друг друга с полуслова, точнее, с полувзгляда.– Арсений Викторович, суд. Новое направление. Сложное. Она положила тонкое бумажное досье на край стола, где не было ничего, кроме компьютера и часов.– «Сложное» – это субъективная оценка, Екатерина. Факты.– Мужчина, двадцать восемь лет. Лев Сергеевич Орлов. Обвиняется в умышленном отравлении сослуживца на корпоративе. Таллий. Пострадавший в коме, прогнозы плохие. Орлов не признаёт вину, от дачи показаний отказывается. Экспертиза запросила психологическую оценку и, возможно, терапию – адвокат хлопочет о смягчении меры пресечения. Направлен specifically к вам. Судья Громов – вы его консультировали полгода назад по другому делу. Я открыл папку. Фотография. Не бледный маньяк-неудачник из моего подкаста. Лицо скуластое, спокойное, почти отстранённое. Глаза смотрели не в объектив, а куда-то мимо, в какую-то свою, внутреннюю точку. Взгляд, который я знал. Взгляд человека, который построил внутри себя убежище и замуровал вход.– Мотивы? – спросил я, листая страницы.– Конфликт на работе. Продвижение по службе. Версия следствия – холодная месть. Версия защиты – несчастный случай, бытовая химия перепутана. Никаких психиатрических диагнозов в истории. Учился хорошо, работал эффективно, коллеги отзываются как о «закрытом, но умном парне». Ни жены, ни близких друзей. Идеальный пустой контейнер. Идеальный материал. В голове уже щёлкнул первый виртуальный слайд будущего, возможно, выпуска «Рацио»: «Преступник как пустое место: почему отсутствие личности – самая опасная личность?».– Запишите. Первый сеанс – послезавтра, 16:00.– Он находится под домашним арестом. Требуется ваше присутствие…– Я знаю процедуру, – отрезал я. – Договоритесь. Катя кивнула и вышла. Тишина снова заполнила кабинет, но теперь в ней был новый оттенок – вкус сложной задачи. Я подошёл к окну. Мой ритуал. Три минуты. Вид на Москву-реку, холодную и тёмную в предвечерних сумерках. Вода. Она всегда успокаивала. Своей неумолимой текучестью. Своей способностью скрывать всё, что в неё погрузили.
Глава 1
Лев Орлов сидел в моём кабинете в той же позе, в которой сидел, вероятно, в камере или у следователя: прямо, руки на коленях, пальцы не переплетены. Расслабленная скованность. Он был в простых джинсах и сером свитере, выглядел даже моложе своих лет. И молчал. Я позволил тишине растянуться. Пятьдесят секунд по моим настольным часам. Первый приём – провокация пустоты. Люди спешат её заполнить, выдают себя. Орлов не спешил. Он смотрел на книжный шкаф, не читая названий, просто скользя взглядом по корешкам, как по стене.– Лев Сергеевич, – начал я, отступая от своего же правила. Его молчание было качественно иным – не упрямством, а… отсутствием. – Вы понимаете, зачем вы здесь? Он медленно перевёл взгляд на меня. Глаза серые, прозрачные.– По решению суда.– Не совсем. По решению суда вы находитесь в этом помещении. Зачем вы здесь – решаете вы. Терапия – не допрос. Это работа с вашим мышлением.– С моим мышлением всё в порядке, – сказал он тихо, но чётко. Без вызова. Констатация.– Отлично. Тогда давайте проверим его порядок. Опишите, что происходило на корпоративе четырнадцатого ноября. С точки зрения вашего мышления. Он снова замолчал. Но это была уже другая тишина – напряжённая, заряженная.– Я не помню деталей.– «Не помню» – это не деталь, это стратегия, – парировал я, подключая лёгкий, почти лекционный тон. – Память не стирается, как файл. Она деформируется, если мы сталкиваемся с невыносимым аффектом. Вы боитесь этих деталей? Или боитесь того, что они докажут? Он взглянул на меня с лёгким, едва уловимым интересом, как учёный на агрессивный, но новый вид бактерии.– Я не боюсь. Мне просто нечего сказать.– Всегда есть что сказать, Лев. Хотя бы: «Я ненавидел этого человека». Или: «Это был несчастный случай». Или: «Я хотел посмотреть, что будет». Молчание – это тоже сообщение. Оно говорит: «Я настолько силён, что мне не нужно оправдываться», или «Я настолько слаб, что не могу сформулировать защиту», или… «Мне настолько стыдно, что я предпочитаю исчезнуть». Я наблюдал за малейшим движением его лицевых мышц. Ничего. Каменная маска. Но камень под давлением тоже трескается. Нужно найти слабое место.– Давайте сменим тактику, – сказал я, откидываясь в кресле, демонстрируя расслабленность, которой не чувствовал. – Забудем про корпоратив. Поговорим о вас. О вашей жизни. Что вы любили в детстве? Он уставился в пол. Пальцы на коленях всё же дрогнули – почти невидимое подёргивание указательного пальца правой руки.– Конструкторы. Те, где всё точно. Где деталь А подходит только к пазу Б. Где нет места ошибке. Его голос был монотонным, но в словах «нет места ошибке» прозвучала тончайшая, как лезвие бритвы, сталь.– И что случалось, если вы ошибались? – спросил я мягче. Он поднял глаза. В них впервые появилось что-то живое – далёкий, холодный огонёк.– Тогда всё рушилось. И приходилось начинать сначала. Это было… неэффективно. Слово «неэффективно» он произнёс с лёгким оттенком брезгливости, как о смертном грехе.– А люди? Они тоже подчинялись этим законам? Деталь А к пазу Б?– Должны были, – просто сказал он. И замолчал снова, словно осознав, что сказал слишком много. Сессия подходила к концу. Я сделал несколько пометок в планшете – не о нём, а о себе. «Сопротивление через отрицание. Защита – интеллектуализация, гиперконтроль. Схема: перфекционизм/катастрофизация ошибки». Сухие, безжизненные термины. Но за ними стояла живая, дышащая боль. Я её чувствовал кожей. Как чувствуешь приближение грозы по давлению в висках.– На сегодня достаточно, Лев. На следующей сессии мы продолжим. Попробуем вспомнить что-нибудь ещё. Даже если это будет неэффективно. Он кивнул, встал с той же механической плавностью. У выхода обернулся.– Вы всё записываете?– Это конфиденциальные заметки для терапии, – ответил я стандартной фразой.– Я имею в виду… для вашего подкаста. «Рацио». Вопрос повис в воздухе, острый и неожиданный. Он знал. Конечно, знал. В наше время скрыть что-либо невозможно.– Моя профессиональная деятельность и публичная – разделены, – сказал я, и мои собственные слова прозвучали фальшиво даже для меня. Орлов не улыбнулся. Он просто снова кивнул, как будто получил подтверждение чему-то очень важному, и вышел. Я остался один. Тишина кабинета теперь гудела по-другому. Его фраза «нет места ошибке» эхом отдавалась в моих костях. Я подошёл к раковине в мини-кухне, тщательно вымыл руки с мылом, смывая невидимую грязь этого контакта. Вода была ледяной. Я смотрел на свои пальцы – длинные, чистые, точные. Инструменты. Но когда я поднял взгляд на своё отражение в тёмном стекле окна, я увидел не уверенного в себе профессионала. Я увидел мальчика, стоящего на берегу реки много лет назад. Картинка была обрывочной, как испорченная плёнка: рыжие волосы брата, крик чайки, ослепительное солнце на воде… и всепоглощающий, животный страх. Не его страх. Мой. Я резко отвлёкся. Включил компьютер. Нужно было готовить материал для нового выпуска. Случай Орлова был идеален. Холодный, рациональный, бесстрастный отравитель. Отличный пример, чтобы развенчать миф о «неконтролируемом порыве». Преступление как логический вывод из ложной посылки. Я начал набирать текст, но пальцы замерли над клавиатурой. Вместо вступления у меня вышла одна строчка: «Что делать, если твоя единственная ошибка – это твоё существование?» Я стёр её. Быстро, яростно. Это было не моё. Это был его голос. Или… мой? Надо было вернуть контроль. Я глубоко вдохнул. Выдохнул. Но внутри что-то уже сдвинулось. Как первая льдинка в начале ледохода. Тихий, неумолимый треск.
Глава 2
Следующая сессия была через два дня. Этого времени хватило, чтобы я, как мне казалось, восстановил границы. Я провёл небольшое расследование – легальное, в рамках запросов. Ничего нового. Лев Орлов был призраком и в жизни. Социальные сети – пустые аккаунты с аватаркой по умолчанию. Коллеги на допросах давали одинаковые, заученные характеристики: «нормальный», «спокойный», «одиночка». Как будто он был не человеком, а функцией, которая внезапно дала сбой и выдала на выходе труп. Мой подкаст ждал нового героя. Аудитория, распробовавшая кровь в истории «Поэта-душителя», требовала продолжения. Я начал черновой набросок. Название родилось само: «Яд без эмоций: аффект против расчёта». Но для убедительности нужна была «изюминка», крючок, за который зацепится слушатель. Нужна была теория, объясняющая эту ледяную пустоту. И тут, поздно вечером, за вторым стаканом минеральной воды (кофеин после 18:00 нарушал сон, а сон был частью режима), меня накрыло. Не мысль. Ощущение. Физическое, тошнотворное воспоминание. Запах речной тины и нагретой солнцем сосны. Звук назойливой стрекозы. И чувство – острое, как нож, – что я что-то забыл. Что-то жизненно важное. Я сидел за своим идеальным стеклянным столом, глядя на идеальный ночной город за окном, и всё моё тело кричало о каком-то древнем, первобытном провале. Брат. Миша. Я не думал о нём годами. Сознательно. У меня была отточенная ментальная схема: трагическая случайность. Я не был рядом. Я не мог ничего изменить. Логично. Рационально. Болезненно, но закрыто. Но теперь, под давлением этой леденящей пустоты, которую излучал Орлов, моя схема дала трещину. Всплыла не картинка, а тактильное ощущение: мокрый песок под босыми ногами. И страх. Не поздний, горестный страх потери, а немедленный, острый, детский страх наказания. Я встал, подошёл к шкафу, где в дальнем углу, за рядами профессиональной литературы, стояла старая картонная коробка. Я не открывал её лет десять. Внутри – архивы, дипломы, несколько детских фотографий. Я нашел ту самую. Лето. Дача. Нас двое: я, двенадцатилетний, щурящийся на солнце, с книжкой в руках, и он, восьмилетний, с мячом, улыбающийся во весь рот, с веснушками на носу. Я смотрел на своё детское лицо и искал в нём… что? Предвестник беды? Вину? Видел только сосредоточенного, чуть отстранённого мальчика, который уже тогда предпочитал книгу игре в мяч. Я положил фотографию обратно и захлопнул коробку, как крышку гроба. Это было слабостью. Ненужным самоанализом. Тем самым «копанием в прошлом», которое я презирал в своих клиентах и коллегах. Я вернулся к черновику подкаста. И тогда, движимый импульсом, который я потом так и не смог рационально объяснить, я начал писать. Не о Орлове. О себе. Вернее, о гипотетическом «клиенте А.».
«…Представьте мальчика. Умного, склонного к перфекционизму. Он верит, что мир должен работать по правилам. Однажды происходит трагедия – гибнет тот, кто был ему близок. Мальчик не виноват. Он физически отсутствовал на месте. Но его психика, его детский, чёрно-белый мозг, рисует другую картину: если бы он был лучше, умнее, предусмотрительнее – этого бы не случилось. Это и есть та самая токсичная, первоначальная ошибка в когнитивной схеме. И чтобы жить с этим, психика совершает фокус. Она не выносит боль наружу. Она замуровывает её в бетонный саркофаг рациональных объяснений: «Это случайность. Я не мог повлиять. Жизнь несправедлива». Клиент А. становится жёстким, контролирующим, циничным взрослым. Он ненавидит ошибки в других, потому что панически боится признать их в себе. Его жизнь – это постоянное, изматывающее бегство от призрака той самой, первой, невыносимой ошибки. А что, если однажды он встретит того, кто посмотрит на него и скажет: «Я понимаю. Моя единственная ошибка – это моё существование»? Что тогда? Саркофаг даст трещину…»
Я остановился. Пальцы дрожали. Я только что вывернул наизнанку свою душу для полумиллиона незнакомцев, прикрывшись фиговым листком «клиента А.». Это было чудовищно. Неэтично. Опасно. И… невероятно освобождающе.Я сохранил файл. Не как черновик подкаста. Как нечто другое. Как свидетельство. Как первую ниточку, ведущую в лабиринт, в который я только что шагнул.
На следующий день Лев Орлов сидел передо мной, и я смотрел на него уже другими глазами. Он был не просто случаем. Он был ключом. Или отражением в кривом зеркале.– Лев, на прошлой сессии вы сказали про конструкторы. Про отсутствие места для ошибки. Что самое страшное случалось, если ошибка всё же происходила? Он помолчал. Казалось, он не дышит.– Мир переставал иметь смысл. Становился… враждебным. Хаотичным.– И чтобы вернуть смысл, что нужно было сделать?– Устранить ошибку. – Он сказал это так же просто, как сказал бы «починить сломанную деталь».– Устранить. Интересное слово. Оно может означать «исправить». А может – «уничтожить источник ошибки». На корпоративе, Лев, была ошибка? Он вдруг устало потёр переносицу. Это был первый по-настоящему человеческий жест за всё наше знакомство.– Вы думаете, я его отравил, потому что он был «ошибкой»? – спросил он, и в его голосе впервые прозвучала не апатия, а что-то вроде горького любопытства.– Я думаю, что вы действуете по внутренней логике, которая вам самим, возможно, не до конца ясна. И моя задача – помочь вам её увидеть. Даже если это будет больно. Он поднял на меня взгляд. И в его серых, прозрачных глазах я увидел не пустоту. Я увидел такую бездну боли и одиночества, что моё собственное дыхание перехватило. Это была не та драматическая, киношная боль. Это была тихая, всепоглощающая пустота, в которой замерзало всё живое.– Боль, – тихо сказал он, – это когда ты понимаешь, что конструктор был собран неправильно с самого начала. И ты не деталь. Ты – тот самый изъян в схеме. И тебя нельзя заменить. Тебя можно только… устранить. Но себя-то устранить страшно. Гораздо страшнее, чем кого-то другого. В кабинете стало тихо. Тише, чем когда-либо. Его слова висели в воздухе, как ядовитый газ. Он только что описал не своё состояние. Он описал моё. Всю мою взрослую жизнь. Погоню за безупречностью. Цинизм как щит. Контроль как способ убежать от мысли, что где-то в самом фундаменте есть трещина. Трещина, которая называется «Миша». Трещина, которую я годами замазывал бетоном рациональных объяснений. И теперь этот молчаливый, обвиняемый в убийстве парень одним предложением разбил мой саркофаг вдребезги. У меня закружилась голова. Комната поплыла. Я почувствовал дикое, паническое желание – вскочить, выбежать, прекратить это. Прекратить сейчас же. Это был не контр перенос. Это было узнавание. Я сжал подлокотники кресла, впиваясь пальцами в кожу, чтобы удержаться в реальности. Вдох. Выдох.– Лев, – мой голос прозвучал хрипло. – Эта сессия… она сегодня была очень продуктивной. Для меня. Спасибо. Он смотрел на меня с тем же бездонным, безразличным любопытством.– Вы побледнели, доктор Стрельников. Вам нехорошо? Этот вопрос, заданный тем же монотонным голосом, был страшнее любой угрозы. В нём была неподдельная, ледяная забота о моём состоянии. Забота палача, проверяющего, жив ли ещё пациент на операционном столе.– Всё в порядке, – я выжал из себя. – На сегодня всё. До следующей встречи. Он молча встал и вышел. Как только дверь закрылась, я бросился в санузел и меня вырвало. Сухими, мучительными спазмами. Потом я стоял, опершись лбом о холодное зеркало, глядя в свои широкие, полные животного ужаса глаза. Он знал. Чёрт возьми, он знал. Не факты. Не историю. Он знал суть. Мою суть. А я? Я теперь знал, что моя выстроенная жизнь, моя карьера, моя личность – всё это был замок из песка, построенный на краю пропасти. И первый же серьёзный шторм начал смывать его в бездну. И штормом этим был он. Лев. Тихий, пустой, обвиняемый в убийстве. Мне нужно было выбирать. Либо я закрываю этот случай, отказываюсь от него, сохраняя остатки своего профессионального фасада и психического равновесия. Либо… Либо я иду дальше. Нарушаю все правила. Не чтобы спасти его. Чтобы спасти себя. Чтобы узнать, что же на самом деле скрывается в той трещине, из которой доносится крик чайки и запах речной воды. Я выпрямился. Умыл лицо ледяной водой. В зеркале на меня смотрел не блестящий терапевт. На меня смотрел испуганный, загнанный в угол зверь. Но в его глазах уже горел новый, опасный огонь – не от контроля, а от одержимости. Я вернулся в кабинет, сел за компьютер и открыл тот самый файл. «Клиент А.». Я дописал последнюю строчку: «А что, если встреча с тем, кто отражает твоё самое тёмное „я“, – это не случайность? Что, если это единственный шанс заглянуть в пропасть и не упасть, а наконец-то увидеть, что на самом деле лежит на её дне?» Завтра. Завтра я начну своё расследование. Настоящее.
Глава 3
Следующие сорок восемь часов были временем, выпавшим из обычного течения моей жизни. Они были похожи на состояние изменённого сознания – чёткое, обострённое, лишённое сантиментов. Я стал оператором в своей собственной тайной операции.
Первым делом я позвонил Кате и сказал, что беру несколько дней для «углублённой работы над сложным случаем» и отменяю все встречи. В её голосе прозвучала лёгкая настороженность – такое случалось впервые за все годы нашей работы. Но она не спросила ни о чём. Её сила была в этой безупречной, почти машинной лояльности.
– Будьте на связи, Арсений Викторович, – только и сказала она.Я не планировал быть на связи.
Моё расследование делилось на два параллельных потока, как сообщающиеся сосуды, где давление в одном тут же влияло на другой.
Поток первый: Лев Орлов. Внешнее.
Я не стал ждать следующей сессии. Я отправился на место преступления. Клуб «Берлога» на Рублёвке, где «Арктос-Инжиниринг» проводил свой злополучный корпоратив. Это было нарушением, граничащим с безумием. Я не следователь. У меня не было ни мандата, ни права задавать вопросы. Но у меня было другое оружие – умение считывать контекст и видеть схемы там, где другие видели хаос.
Клуб в будний день после обеда был пуст и похож на выпотрошенную тушу дорогого зверя. Громадное пространство в стиле «сибирского шале», темное дерево, чучела медведей с грустными стеклянными глазами. Менеджер, молодой парень в слишком тугом жилете, откровенно скучал и был рад хоть какому-то вниманию. Я представился частным психологом, нанятым семьей для «реабилитации коллектива после трагедии». Полуправда – самый удобный камуфляж.
– А, этот ужас с отравлением, – закатил глаза менеджер, которого звали Марк. – У нас потом три недели проверки были. Кошмар. Хотя… для вас, психолога, наверное, золотая жила.Я игнорировал цинизм, совпадающий с моим собственным.– Можно посмотреть то место, где всё произошло?Он провёл меня в банкетный зал «Тайга». Длинный стол, способный усадить человек сорок. Сейчас он был пуст, покрыт стерильной белой скатертью.– Они сидели вот тут, – Марк ткнул пальцем примерно в середину стола. – Шумно было, пили много. Виски, водка, кому что. Закуска… ну, канапе, стейки, фрукты. Стандартный набор.– А где был Орлов? И… пострадавший? Как его…– Корякин. Дмитрий Корякин. Замначальника отдела. Орлов сидел напротив него. Через стол.– И они… общались? Конфликт был заметен?Марк пожал плечами.– Да кто их разберёт. Все уже поддатые. Кричали тосты, смеялись. Эти двое… не знаю. Вроде, пару раз через стол перекинулись парой фраз. Ничего такого. Потом Корякин стал плохо себя чувствовать. Сначала думали – перепил. Потом его вырвало, он начал задыхаться… Вызвали скорую. А Орлов сидел и смотрел. Просто смотрел. Бледный, но спокойный. Потом его и забрали.«Сидел и смотрел». Фраза отозвалась во мне ледяным эхом. Не действие. Наблюдение. Как учёный за неудачным экспериментом.– А бар? Где напитки наливали?Менеджер показал на стойку в углу. Я подошёл. Стандартная установка: несколько бутлегеров с виски, водкой, джином. Холодильник с соками и тоником. Сифон с газировкой. Здесь не было индивидуального обслуживания. Каждый подходил и наливал себе сам или просил бармена. Идеальная среда для того, чтобы подлить что-то в стакан конкретному человеку, пока тот отвлечён. Но для этого нужен доступ. Нужно быть рядом. Орлов сидел напротив. Чтобы отравить именно стакан Корякина, ему пришлось бы встать, обойти стол, сделать это незаметно… Слишком много действий, слишком много свидетелей. Неэффективно. Рискованно.– А что, если яд был не в стакане? – спросил я почти про себя.– Что?– Ничего. Спасибо, вы очень помогли.Я вышел на улицу, где уже сгущались зимние сумерки. Воздух обжёг лёгкие. Моя гипотеза «холодной мести» начала давать трещину. Слишком неуклюже, слишком эмоционально для человека, чья главная характеристика – эффективность и контроль. Лев не был мстительным истериком. Он был инженером. Если бы он хотел устранить ошибку по имени Корякин, он нашёл бы способ чище, без этого цирка с корпоративом и десятками свидетелей.Значит, либо он невиновен. Либо… мотив был другим. Глубине, страннее. Таким, о котором он и сам, возможно, не мог сказать.
Арсений Стрельников. Внутреннее.
Я сел в свою машину – тёмно-серый внедорожник, чистый и безликий, как броневик, – и набрал в навигаторе адрес, которого не вводил больше двадцати лет. Посёлок Речное, в двухстах километрах от Москвы.Дорога растворяла время. Однообразный пейзаж за окном, мелькание фонарей, ритмичный стук дворников. Я пытался думать о деле Льва, но мозг, как заевшая пластинка, возвращался к одному и тому же: мокрый песок. Крик чайки. И страх.Я приехал поздно. Посёлок спал. Он изменился, разросся коттеджами «новых русских», но старая часть, где стоял наш дачный кооператив, осталась почти той же: узкие улицы, покосившиеся заборы, тенистые сады. Я не поехал к нашему старому дому – его, я знал, родители продали вскоре после смерти Миши. Вместо этого я остановился у небольшого магазинчика «У Людмилы», который, к моему удивлению, ещё работал.Внутри пахло так же – тмином, дешёвым кофе и сыростью. За прилавком сидела та же Людмила, только ставшая втрое больше и обросшая морщинами, как дуб мхом.– Молодой человек? – хрипло спросила она, всматриваясь в меня подслеповатыми глазами.– Бутылку воды, пожалуйста. И… вы здесь давно работаете?– Семьдесят восьмого года, милок. Здесь и помру, – она хмыкнула, протягивая воду. – А тебя что, интересует?Я сделал глоток, покупая время. Сердце билось где-то в горле.– Лет тридцать назад здесь… была трагедия. Мальчик утонул.Лицо Людмилы сразу потемнело.– А, это… Да, помню. Страшное дело. Стрельниковы. Рыжий мальчонка. Мишутка. Солнечный был пацан. А старший… какой-то замкнутый, в книжках всё копался.Она говорила о Мише с теплотой. Обо мне – как о постороннем. Меня это странным образом успокоило.– А что… как это случилось? Вы помните?Она посмотрела на меня пристально.– А тебе-то зачем, милок? Из газеты что ли?– Я… родственник, – соврал я. – Собираем семейную хронику.Она вздохнула, облокотившись на прилавок.– Да что помнить-то. Лето, жара. Мать ихняя в городе была, отец на работе. Мальчишки одни на даче. Старший, Арсений, говорят, в город уехал – на какую-то олимпиаду. А младший, Мишутка, сбежал на реку купаться один. Запрещали же им… Ну, нашли потом… – она перекрестилась. – Страшно. Весь посёлок на ногах был. А потом старшего привезли, он как столб стоял, не плакал даже. Шок, говорили. Потом они уехали и больше не появлялись. Дом продали.Всё как в официальной версии. Всё как в моих воспоминаниях. Я был в городе. Я не виноват.– А кроме мальчишек, кто-нибудь ещё был на дачах в тот день? Соседи?Людмила нахмурилась, копаясь в памяти.– Старуха Михеева, напротив, вроде дома была. Да она уже лет десять как померла. Ну, и… – она вдруг прищелкнула пальцами. – А, да! Егоровна! Татьяна Егоровна, учительница на пенсии. Она в конце улицы жила. Она что-то говорила потом… Да что там, уже и не упомню. Она, по-моему, в тот день кого-то видела у реки. Не то Мишутку, не то… – она махнула рукой. – Старая уже была, могло и привидеться. Да и она, поди, в земле давно.«Кого-то видела у реки».Фраза повисла в воздухе. Крошечная деталь, которая ничего не меняла и меняла всё.– Спасибо, – сказал я, положив на прилавок купюру, намного превышавшую стоимость воды.– На здоровье, милок. И передай родственникам – царствие небесное мальчику. Светлая была душа.Я вышел, и холодный воздух обжёг лицо. «Кого-то видела у реки». Не «мальчика». «Кого-то». Множественное число. Или неопределённое.Мне нужно было найти эту Татьяну Егоровну. Или её следы.Я заночевал в безликом мотеле на трассе. Сон не шёл. Я лежал в потёмках и смотрел на трещину на потолке. Она извивалась, как река на карте. Как та самая река, в которой…Внезапно, из глубин памяти, всплыл новый обрывок. Не зрительный. Тактильный. Я чувствовал в руке тяжесть и гладкость… камня. Большого, плоского речного камня. И чувство… не страха. Решимости. Дикой, отчаянной решимости что-то исправить, загладить.Я сел на кровати, обливаясь холодным потом. Что это было? Я никогда не помнил такого. Это была не моя память. Это была память моего тела. Моих мышц.Я включил свет, схватил блокнот и начал записывать всё, что знал о деле Льва и о своём деле, в две колонки. Методом свободных ассоциаций, который я так презирал в терапии.