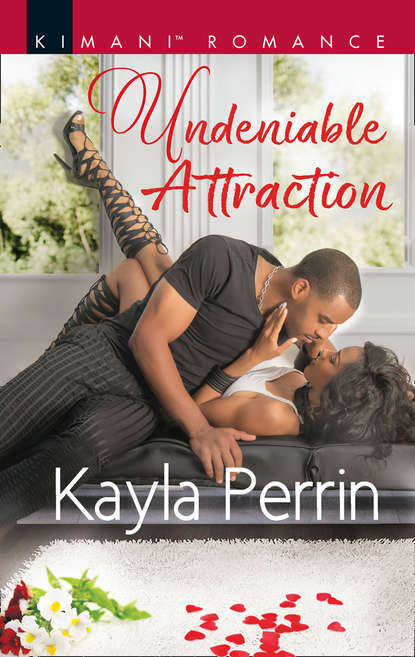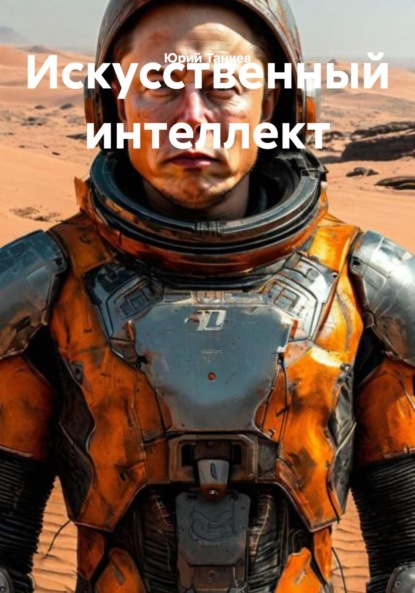Пряха. Закон Равновесия

- -
- 100%
- +

Вместо предисловия
В один из дней Белобог, от скуки прогуливаясь по земле, увидел богиню Морану, жену своего родного брата Чернобога. До того соблазнительной и пленительной была холодная красота богини, что овладела Белобогом любовь неземная, всепоглощающая.
Терзаемый сомнениями, чувством вины и горечью безответных чувств обратился Белобог к брату своему с надеждой, в поисках понимания. Признался он брату родному в чувствах к супружнице его, просил уничтожить любовь в своей душе. Морана же, восседавшая у трона супруга своего, не проронила ни слова. Лишь тень скользнула по ее ледяным чертам лица, а в глазах, холодных как зимнее озеро, мелькнуло презрение к слабости Белобога.
Не оценил Чернобог искренности брата, ревность обуяла его, застилая глаза слепым маревом. Обнажил свой черный меч Чернобог и поднял против брата родного. Обнажил свой золотой меч Белобог, ибо не было другого спасения.
Золотой клинок Белобога, пламенем жизни горящий, встретил ледяное лезвие Чернобога, вобравшее в себя весь мрак Нави. От ярости их ударов, от самой сути Света и Тьмы, искрами сыпал металл. Искры золотые, как утренняя заря, падали на землю – и где касались они камня, дерева или человека, там рождались руны света, дар прозрения и сила исцеления. Искры черные, как беззвездная полночь, проникали в тени и глубины – и где касались они земли, воды и людей, там пробуждались чары иллюзий, шепот предсказаний бед и власть над хладом смерти. Так, невольным плодом их ярости дарована была смертным магия – светлая и темная, как сами боги-близнецы, как две стороны единого мира.
Морана наблюдала за схваткой братьев с каменным безразличием, лишь легкий ветер, рожденный ударами их мечей, волновал ее черные косы. Казалось, эта битва за ее честь была ей столь же чужда, как летнее солнце.
Великим был этот бой, но равными были силы братьев родных. И тогда разошлись они, каждый при своем убеждении. Белобог ушел, опечаленный безответными чувствами и непониманием брата. Никогда больше любовь не касалась его божественного сердца.
Когда бой утих, Морана взглянула вниз – на мир людей. И увидела она, как новые искры – и светлые, и темные – вспыхивают в руках смертных. Но не благоговение и осторожность вызывали в них эти дары, а жадность, суету и тщеславие. Магию тратили на пустое: зрелища, мелкие обиды и сиюминутную выгоду, разменивая великий дар богов на медяки. И тогда даже сердце Мораны, холодное как вечная зима, сжалось от горького предчувствия. Так бездумно растраченная сила грозила нарушить хрупкое равновесие мира, что держалось на вечном противоборстве и единстве Света и Тьмы.
В раздумьях пальцы богини коснулись холодного металла у ее пояса – серебряной монеты, принесенной в жертву кем-то из смертных. Монета лежала на ладони, безмолвная и совершенная в своей простоте. «Все имеет свою цену… – прошептала Морана, и в глазах ее вспыхнул ледяной огонь. – И за могущество должно платить. Не медяком и не золотом, а частью себя. Равновесие будет восстановлено».
С тех пор любой, даже не обладающий изначальным даром, знает это правило, вбитое в саму ткань мироздания: за любое действие, великое или малое, придется заплатить.
Монета Мораны стала вечным символом этой неумолимой сделки.
Пролог
Стояла середина жаркого и душного лета, от которого трескалась земля и липла к спине рубаха. Солнце было беспощадным, воздух над полями колыхался, как над костром. Полуденное пекло спало к вечеру, и на улицы Вехорцев высыпали жители, чтобы с облегчением вдохнуть свежий вечерний воздух.
– Эй, малышня! Не суйтесь в стойло! – в который раз сурово пригрозила пальцем Мария. – Не пугайте жеребенка! Не то лягнет мамка, нарветесь же! Беда будет! – И себе под нос добавила: “ Что за дети пошли… Совсем не слушают.”
Ребятишек это останавливало, но ненадолго.
– Чует сердце мое, пора разгонять, зашибет кого-то кобылица, горя не оберемся, – беспокоилась соседка.
Много детей сегодня толпились во дворе медоваров1. Лошадь торговцев только сегодня благополучно разродилась крупным здоровым жеребенком с белой звездочкой на лбу. Весть разнеслась по Вехорцам быстрее ветра, и детишки со всей деревни прибежали посмотреть на «маленькую лошадку». Искра, давно привыкшая к людям, и внимания не обращала на ликующих детей. Она лениво размахивала хвостом, отгоняя докучливых мух. А вот новорожденный жеребенок вел себя беспокойно. Он еще неуверенно стоял на ногах, терся о ноги матери, жался к ней.
Дети помладше с любопытством заглядывали в стойло, пытались совать туда яблоки и морковь, чтобы угостить лошаденка.
– На, бери! Сладкое! – наперебой кричали они.
– Он не берет! – раздался разочарованный возглас.
Дети постарше с умным выражением на лицах наставляли, дескать, жеребенок после рождения сосет молоко у матери и только осенью, а то и к зиме, начнет понемногу брать другой корм.
Бабки Мария и Катерина наблюдали за происходящим, лузгая семечки во дворе.
– Да брось, пусть детвора посмотрит. Там жерди крепкие. Че думаешь, Машка, как назвать жеребца? Смотри, какой крупный и статный, ноги уже высокие, – спросила и деловито добавила Катерина, отплевывая шелуху.
– Да не знаю, Катька, – отмахнулась Мария. – Что не упомню, так у кого-то уже такой стоит. Много лошадей нынче стало, а сена в зиму готовят мало. На что надеются? Что кони снег есть станут?
По вечерам у забора, под раскидистой яблоней, собирались две соседки: Мария и Катерина, мать медоварки Карины. Их скрипучая лавка стояла в стороне – одним концом выходя на межу2, другим на улицу. Отсюда, как на ладони, были видны и дворы с внуками, и вся деревенская жизнь. А уж собрать свежие сплетни для этих хитрых бабок было делом привычным.
– Не надо имя выбирать, баба Катя, – тихонько дернула за рукав внучка Милолика.
– Чей-то? – удивленная бабка развернулась к маленькой девчушке всем телом, округлив глаза от неожиданности.
Милолика кротко опустила глубокие голубые глаза и примостилась рядом с бабкой. Девочка перешла почти на шепот:
– Не проживет он долго, ба. И до конца лета не дотянет.
– Да с чего ты решила, не пойму? Блажь какая! – нахмурилась Катерина. – Здоровый вполне коненыш: одна голова, один хвост, четыре ноги. Ест хорошо. Че ему станется?
Бабки непонимающе переглянулись.
– Ну и выдумщица растет, – покачала головой Катерина.
Мария пожала плечами, мол, ребенок, придумала себе что-то, чего с девчушки взять. Катерина уже раскрыла рот, чтобы предложить кличку, которая только что пришла ей на ум, как Милолика снова тихонько заговорила:
– Я не знаю, ба, но у него ниточка совсем короткая… Малюсенькая такая…
Она указала хрупким пальчиком в сторону стойла, где жеребенок, будто почувствовав ее взгляд, жалобно забил копытцем по земле.
– А? Какая ниточка? Не понимаю тебя, дитятко. О чем ты?
– Ну, беленькая такая. Ниточка. Она короткая у всех, кого скоро не станет.
– Ой, ну о чем ты мелешь, Милка! Какие нитки? – раздраженно махнула рукой на девочку Катерина и закатила глаза. – Что не придумаешь, чушь собачья…
– Такие нитки! Беленькие! – обиженно прикрикнула девчушка, вскочила с лавки и побежала через двор к дому. Только соломенного цвета косички с голубыми лентами взволнованно метались по хрупкой спине. На полпути к крыльцу, у груды дров, Милолика остановилась и обернулась на бабок. Она упрямо топнула ножкой, и ее глаза, наполненные слезами обиды, сверкнули белым. Девочка дернула головку назад и побежала к дому.
Соседка Мария, которая смотрела Милолике вслед, заморгала и потерла глаза.
Наступило молчание, нарушаемое лишь тихим фырканьем жеребенка.
– Ох и норов! И достанется какому-то жениху же! – Катерина со вздохом вернулась к лузганью семечек.
– Знаешь, соседка, – тихо, сдавленным от тревоги голосом отозвалась Мария, так и не отрывая взгляда от крыльца, куда скрылась девочка, – кажись, у вас родилась пряха.
Глава 1
Майское солнце миновало полдень. Земля была щедро залита его, почти летним, теплом. Воздух был свежим, прозрачным и неподвижным. Только легчайшее дуновение теплого весеннего ветра шевелило листья на березах. Яркая зеленая трава пестрила одуванчиками, над цветущей черемухой гудели шмели. Небо было безмятежно – ни облачка.
Карина ввалилась в избу, держась за живот. Под сердцем она носила дитя, и, очевидно, настало время разрешения от бремени. Она тяжело и глубоко дышала, лицо кривилось от боли.
– Милка! Мила!!! – голос Карины звучал властно и требовательно. Молниеносного ответа не последовало. – Где тебя носит, паучиха недоделанная?!
Из комнаты выскочила Милолика, совсем уже взрослая. Стройная, с тонкими чертами лица, с длинной светлой косой. Деревенские за спиной называли ее «Княжна» за аристократическую красоту. Уже девятнадцатая весна, а все в девках, с матерью да младшими нянчится. Легко освоила медоварение, да не любо оно ей было, потому матери помогала из-под палки.
– Ну, прости ма, там ниточку зажать нужно было, я не могла бросить.
Милолика виновато захлопала огромными голубыми глазами. Невинное личико, которое смягчало любого. Любого, кроме ее матери.
Карина ойкала и пыхтела, шумно выдыхая носом и хватаясь руками то за шкаф с посудой, то за край стола.
– Ма, мамочка, ты что… Да? – по губам Милолики разлилась блаженная улыбка, будто это она сама готовилась стать матерью. Глаза засияли, зрачки расширились. Она вся подалась вперед в ожидании чуда рождения новой жизни.
– Боги всемогущие! – закатила глаза Карина, подперев руками спину. – Взрослая девка уже! Где младшие? Гони прочь из дому, на улице хорошо, тепло очень. Сама давай сюда. Поможешь, и тебе наука будет.
И, выдержав паузу, добавила в пустоту:
– Хотя, если так и будешь у прялки с утра до ночи сидеть, разве что ветром от кого надует…
Возможно, она добавила бы что-то еще, но живот свело так сильно, что у Карины перехватило дыхание.
Милка уже вовсю хлопотала вокруг матери.
– Младших нет, я их по соседям развела утром еще, – кричала снующая туда-сюда Милолика. – На всякий случай, до завтра! Баня готова, простыней и воды я нанесла, соломы настелила. Вот тебе горячая малина, идем! – Она решительно сунула матери кружку с ароматным горячим чаем. Подхватила роженицу под руки и направила к двери. На выходе схватила кувшин с молоком и широкий гребень.
– Откуда вдруг такие познания? – Карина подозрительно прищурилась, глядя на дочь.
– Не волнуйся, ма, я у повитухи все выспросила.
– Милка, – серьезно сказала Карина, – она даром в руку не плюнет. А у нас лишнего медяка нет. Ты что ей отнесла?
– Обрядник 3с жар-птицами. Я его закончила. Его и отнесла. Взамен она мне все показала, рассказала.
– Ой, дура ты, Милка, за такой обрядник она должна была сама прийти!
Но Милолика, давно привыкшая к характеру своей сварливой матери, лишь улыбнулась в ответ и мягко подтолкнула ее к выходу на крыльцо.
На крыльце Милка вылила молоко со словами:
– Как молоко бежит, так и дитятко спешит!
– Ой, – округлила глаза Карина, – Милка, вода потекла…
На юбках Карины отчетливо проступило большое мокрое пятно, которое продолжало шириться.
– Идем, идем! – Милолика без остановок повела мать в баню.
В бане стоял густой, но не обжигающий, а приятный пар. Пахло ромашкой и чабрецом. Мила ловко развязала все узлы на одежде матери, расплела ее посеребренную черную косу, стащила верхнюю одежду и юбки, чтобы освободить ребенку путь. Так ее научила повитуха.
Карина встала на колени, обхватив руками лавку.
Мила взяла березовый веник, плеснула через него ароматной травяной воды на камни.
– Как вода сквозь березу течет, так дитя из утробы выйдет! – Она повернулась к матери. – Ма, давай, все будет хорошо!
Карина и сама понимала, что нужно делать. Как-никак четвертый раз уже. Но ранее всегда с ней была повитуха. И муж, который был рядом, пока его не начинали гнать взашей. А сейчас она чувствовала себя как никогда уязвимой и молила всех известных ей богов, чтобы разрешиться без крови и горячки и не оставить детей сиротами.
Потуги шли как нужно. Дитя быстро вышло, за ним – послед. Крови было немного.
Милолика подхватила ребеночка. Мальчик. Одним движением ножа, как учила повитуха, Мила перерезала пуповину на ломте хлеба, чтобы рос в достатке. Омыла в воде с молоком, медом и крапивой от голода, болезней и сглаза. Обернула новорожденного брата чистой простыней и отдала в руки матери. Сама же обтерла мать, туго перевязала ей живот поясом, как сказала повитуха, чтобы внутренности встали на место.
Карина взглянула на сына. Мальчик был крупным, на вид совершенно здоровым. Тут же с удовольствием начал есть. Ее взгляд скользнул по его крепким ручонкам, по жадно сосущему ротику, и она мысленно прикинула, сколько молока и материнских сил потребует этот младенец. Она тяжело вздохнула.
Милолика сверкнула белыми глазами.
– Все будет хорошо, ма! – она по-детски всплеснула руками и умильно заулыбалась. – Крепкий здоровый малыш.
– Ладно, идем в дом, – устало пробормотала Карина.
– Идем, – весело звонким голоском отозвалась Милолика. – Я позже все уберу и послед закопаю.
– Милка, – вдруг остановилась на полпути к крыльцу Карина и серьезно посмотрела на дочь, – бросай свою прялку. Не хочешь мед варить, иди в повитухи. Это твое.
– Ой, ну ма, – девушка залилась звонким смехом. – Тебе лишь бы не прялка!
– А что? Это ничего, что молодая. Много узнать успеешь! Посмотри на нашу повитуху. Голодное тяжелое время, а она как вареник в масле катается! Потому что какое бы время ни было, а родят женщины всегда. Подумай хорошо!
– Идем в дом, ма, застудишь, – Милка кивнула на младенца, и они потихоньку пошли домой.
Дома Милолика уложила мать на чистые простыни, чтобы та отдохнула. Взяла на руки маленького, покачала, посюсюкалась с ним.
– Иди, дочка, баню смой, солому убери, иначе потом тебе же тяжело убираться будет.
Милка поставила рядом с матерью воду, яблоки, хлеб, мед, кружку теплого чаю из трав. И пошла убираться в бане.
Уборка потребовала времени. Девушка тщательно смыла все с пола и лавки. Застирала простыни, пропарила баню. Потом закопала послед под деревом во дворе, как наставляла повитуха. Миле показалось странным, что за все время, пока она копала во дворе, младенец ни разу не заплакал. Но она и не прислушивалась, наверняка пропустила.
Вернувшись в дом, Милке хотелось одного – самой сходить в баню и переодеться в чистое. От нее несло потом и землей. Хорошо, что младшие у соседей, до утра можно отдохнуть, день выдался тяжелым.
Но прежде, чем идти мыться, девушка не удержалась и решила заглянуть к матери. «Одним глазком, пусть спят!» – подумала она и босиком тихо-тихо зашла в комнату. Приоткрыв дверь, Милолика впервые в своей жизни испытала леденящий душу и тело ужас.
Мать сидела на кровати, устало вытирая пот со лба. Простыня под ней была в кровавой мазне, вставать ей было еще рано. Младенец лежал рядом, распластанный, его живот был неподвижен. У ног Карины стояло ведро с водой.
Милолика застыла в немом оцепенении. Она хотела что-то сказать, но голос не шел. Ее рот беззвучно открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбки.
«Ведро… Зачем ведро… Она же… Она же не…» – пронеслось в ошалевшей голове.
– Ма… Мама?
Кровь отхлынула от лица, от ладоней, от ступней. Вся Мила сделалась белее и холоднее снега. В ужасе она попятилась назад.
– Ой, ну дыши, дыши, – устало бросила в сторону дочери Карина.
– Мама, мамочка, что же ты наделала… – лепетала Милолика. Слезы потекли по ее белым похолодевшим щекам. Губы тряслись. Она касалась дрожащими руками лица, как будто хотела закрыться и не видеть всего этого.
– Даже объяснять не хочу. Тебе только с прялкой играть охота, а мне кормить всю свору. Куда мне одной четвертый рот? Я тебе что? Мужик? Где я столько набатрачу? Я и так с утра до ночи над котлами да горшками торчу, а все равно не хватает. Когда отец твой был жив, вместе было легче, а теперь…
Она перевела взгляд на бездыханное тельце младенца и продолжила:
– Он даже не понял ничего. Я быстро и аккуратно.
– Ма… Я бы помогла, да ты что… Я же… Я продала бы…
– Да кому они нужны, тряпки твои! Сейчас время тяжелое, все выживают, как могут. Половину лошадей в деревне на похлебки порезали, а ты хочешь, чтобы люди за тряпки последние гроши отдавали?! – распалялась Карина.
Глаза Милолики стали белыми.
– Мамочка… Ты… Нитку его крепкую, длинную обрезала, и теперь она вокруг твоей закрутилась и узлов навязала… Беда будет, мамочка… Как ты могла…
– Да будет тебе! – мать разозлилась не на шутку. – Хватит мне эту блажь нести про нитки и узелочки! Ты бы лучше замуж вышла, сколько кормить тебя можно? Нешто не видишь, как мать тянется, пуп надрывает! А с муженьком и подмога была бы. Так нет же, сидит у матери на шее, кобыла! Вымахала с башню, так думаешь вниз плевать можно?!
Крики матери выдернули Милолику из объятий липкого ужаса. Она начала приходить в себя. Перестала плакать. Руки больше не тряслись, пальцы сжались в кулаки.
– Я… расскажу… – впервые в жизни в голосе Милолики зазвенел металл.
– Че-е-е? – что есть силы заорала мать в приступе ярости. – Я те ща расскажу!
Голос Карины надломился и перешел на визг. Ослепленная злобой она подскочила с кровати. Низ живота отозвался резкой пронзительной болью, но обезумевшая женщина даже не поморщилась. В один прыжок она очутилась перед Милоликой лицом к лицу. Глаза в глаза. Обычно кроткая Милолика не шелохнулась. Не отвернулась. Не опустила взгляд. Она смотрела в глаза матери, как смотрят в глаза волчице, зашедшей во двор.
– А ну-ка, повтори, – прошипела Карина.
– Я расскажу, – на этот раз тише, но спокойно и уверенно произнесла Милолика.
Мать привыкла видеть дочь совершенно другой, и подобная реакция заставила ее растеряться. Но ненадолго. Карина схватила Милолику за косу и рванула вниз с такой силой, что девушка вскрикнула от боли и упала на колени, обхватив руками волосы на голове.
– Ты не только будешь молчать об этом, ты еще и расскажешь всем то, что я тебе скажу, – шипела гадюкой мать. – И если ты посмеешь ляпнуть хоть слово лишнее, я тебя продам заезжим торговцам за всю… на три ночи! А поскольку ты чиста, я с них стребую втрое. Мне с младшими на всю следующую зиму денег хватит. А тебя выгоню со двора, на что мне потаскуха в доме? Ты меня поняла?!
Милка смотрела в глаза матери упрямо, непокорно. Она больше не плакала, не тряслась, не боялась. Что-то внутри нее затвердело, застыло и дало стержень спине.
– Ты. Меня. Поняла? – дергая дочь за косу, отчеканила каждое слово Карина.
– Поняла, – тихо проговорила Милолика, но глаза не опустила.
«Ничего она не поняла. Подведет меня под топор!» – подумала про себя Карина и выпустила из рук косу.
Глава 2
– Нужен розовый куст.
Милолика заговорила первой. Голос прозвучал чужим, плоским, без единой вибрации. Она все еще сидела на полу, вжавшись спиной в грубые доски стены. Лицо было каменным, а взгляд уперся в одну точку на полу, будто она пыталась прожечь в нем дыру, чтобы провалиться в тишину и небытие.
– Да где я тебе его возьму? Рожу, что ли? – зло бросила Карина. – Гробовщик в долг не даст.
– Я попрошу у соседей или у старосты. В такой просьбе никто не откажет.
– Ну, иди. Может, сгодится твоя улыбка на что-то. Иди. Я сейчас посижу немного и омою, запеленаю. Иди.
Мать замахала рукой в сторону двери. Другой рукой она подпирала ноющий правый бок.
На улице уже темнело. Милолика пошла по главной улице, мимо запертой на ночь кузницы и покосившихся изб дальнего конца. Соседи, мимо дворов которых проходила Мила, смотрели на ее застывшее лицо, на ее размеренную походку и сочувственно кивали ей вслед. Все в девушке говорило о том, что случилось что-то плохое, но спешить уже нет надобности.
Самые красивые розы с небольшими нежными бутонами, цвета утренней зори, росли только у старосты. Раньше Милолика постеснялась бы, но сейчас у нее даже сердечко не дрогнуло, когда она постучала в высокую калитку.
– Вечер добрый, Милолика! – вышел улыбающийся староста. – Слышал, слышал, что мамка твоя домой побежала днем. Уже можно поздравлять?
Когда он подошел ближе и рассмотрел в сумерках лицо Милы, то сразу осекся, прикусив язык.
– Может, помощь нужна? Случилось чего? – Староста наклонился, чтобы лучше разглядеть ее лицо в сумерках.
На глаза девушки навернулись слезы. Ей так захотелось упасть на колени, завыть, заголосить, рассказать всем, что сделала ее мать… Но она сдержалась. Сглотнула. Взяла себя в руки, сжала кулаки. И тихо, ровным голосом ответила:
– Нужен розовый куст.
Всеволод Мирославович тяжело вздохнул, поняв все без слов.
«Ах… Ой…» – послышалось отовсюду. Только сейчас Мила увидела, что все заборы вокруг «утыканы сочувствующими». Женщины участливо закудахтали, закачали головами.
Староста тоже покачал головой.
– Что ж… – он опустил глаза. – А как Карина?
Мила утвердительно кивнула, потупив взгляд. Потом решила, что нужно что-то сказать для пущей убедительности.
– Мальчик долго не появлялся и … не дышал, – девушка всё же выдавила из себя то, что наказала ей мать.
– Понятно… – тяжело вздохнул староста. – Знаешь, пойдем я помогу. Все же мужской руке копать привычнее. Погоди минутку.
«Ой… Ах…» – снова пронеслось вокруг. Теперь женщины одобрительно кивали, выражая одобрение старосте, мол, какой отзывчивый и порядочный человек, всегда готов помочь.
Милолика стояла как статуя, пока ждала старосту. Ей казалось, что все смотрят только на нее, ловят каждый ее вздох. Одно неосторожное движение, и паутина ее лжи исчезнет, как от огня, все узнают правду. Мать обходить десятой дорогой будут, а ей и младшим – позор на всю деревню.
Староста отделил часть розового куста. Взял добротную лопату на плечо.
– Лучина найдется? Темно уже, – обратился он к девушке.
– Да, – кивнула Мила.
– Идем.
Шли молча. Староста нарушил молчание:
– Мил, я понимаю, это непросто. Отец не так давно умер, а тут … Молодые девушки все принимают близко к сердцу, но это нормально, так природой задумано. Все переживется, у тебя брат есть, сестра, мать. Все будет хорошо.
Девушка все также молчала. В темноте не было видно, но Мила побелела как стена. Скрывать правду, которая еще горче, чем сама ложь, оказалось тяжело.
Притворные завывания Карины стало слышно издалека. Она подвывала, как побитая собака, рассказывая столпившимся во дворе соседкам, как тяжело ей было в родах, как она молилась, чтобы малыш начал дышать, но все оказалось напрасно. Верхом лицемерия и кощунства Милолика посчитала то, как мать расхваливала ее, как расторопную и смышленую повитуху, которую обучила наша деревенская повивальная. Карина настойчиво приглашала женщин обращаться к Милолике, обещая, что Милка недорого возьмет и все сделает как надо.
Женщины вздыхали, кивали головами и сочувственно обнимали Карину. Каждая старалась не просто поддержать, а чем-то помочь. И ни одна не пришла с пустыми руками. Все несли еду, напитки, травы для рожениц, мази. Все это соседки складывали на столик и лавку во дворе. Милолика видела, как Карина жадно осматривала «подарки», из-за чего к горлу девушки подступала тошнота.
Похоронили маленького во дворе, сверху посадили розовый куст. Карина сначала долго и показательно плакала, хватаясь за живот. Потом долго благодарила старосту, причитая:
– Если бы не вы, копать нам с Милкой до утра!..
Разошлись все ближе к середине ночи.
Милолика грустно взглянула на розовый куст. В ночной темноте он едва был различим. Могла ли она помешать произошедшему? Могла ли она предвидеть как поступит ее мать? Могла ли помешать ей? Мысли роились в голове, горечь и боль накатывали волнами, слезы душили горло.
Сегодня утром Милолика, увидев мать, сразу поняла, что что-то произойдет. Белая ниточка, вьющаяся от ее шеи, образовала завиток. Милка решила, что это к родам, и все утро готовилась. Только сейчас она поняла, что завитки – это не просто важные события, это ключевые повороты нити жизни. Чтобы усвоить этот урок, ей пришлось потерять новорожденного брата.
«Завиток… – пронеслось в голове, и мысли внезапно встали на свои места, холодные и острые, как лезвие. – Мать сделала свой выбор. И я сделаю свой.»
В это время Карина деловито разобрала все, что принесли соседки. Внутри все пело: столько добра, столько уважения! Никто ни о чем не догадался. По-другому нельзя. Никто не поймет.