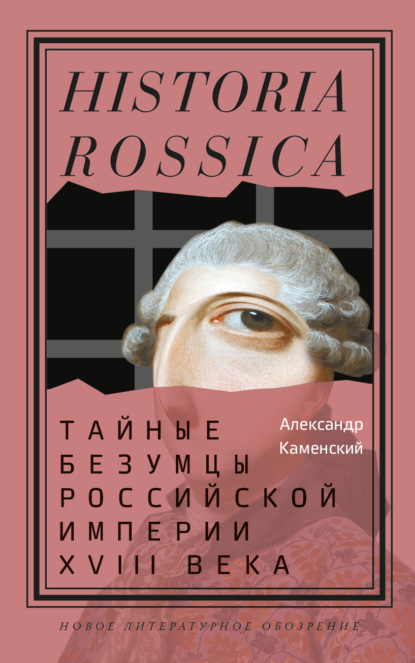- -
- 100%
- +

My Mother Cursed My Name by anamely salgado reyes
Copyright © 2024 by Anamely Salgado Reyes
© Наталья Лихачева, перевод, 2025
© Андрей Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© «Фантом Пресс», издание, 2025
Маме, благословившей мое имя
Часть первая
Глава 1
АнгустиасНа протяжении нескольких поколений женщины из рода Оливарес пытались изменить ход судьбы с помощью имен. Все они славились упрямством, однако явно недооценивали, насколько эта же черта присуща судьбе. В результате ни одна попытка не увенчалась успехом и женщины Оливарес так и не смогли управлять ни своей жизнью, ни, что самое важное, жизнью своих дочерей.
А началось все 18 июня 1917 года, когда Хуста[1] Оливарес, женщина жестокая и несправедливая, решила назвать новорожденную дочь Каламидадес[2]. Хуста рассудила, что поскольку жизнь была немилосердна к ней, то и дочери незачем жить лучше. Ничего дурного в своем выборе она не усматривала. Напротив, Хуста убедила себя, что это настоящий подарок, ведь в несчастьях можно обрести мудрость и стойкость, если приложить достаточно усилий, чтобы видеть в них не только боль.
В жизни Каламидадес Оливарес не случилось ни одного несчастья, за исключением ночи, когда она родилась, а мать умерла, держа на руках спящую дочь. На следующий день ее богатая и одинокая тетушка по имени Дария удочерила Каламидадес, а позже сделала своей единственной наследницей. Поскольку Дария дала племяннице кров, мудрость и любовь – три составляющие, необходимые для того, чтобы сердце не ожесточилось, – девочка выросла без обиды на мать и выбранное ею имя. Каламидадес полагала, что Хуста была права. Несчастья могут быть подарком, просто она такого никогда не получала.
Судьба позаботилась, чтобы беды обошли Каламидадес стороной. Когда на северо-восток Мексики обрушился ураган, ее родной прибрежный город Матаморос ни капли не пострадал. Десять лет спустя, когда регион накрыла пятилетняя засуха, раз в месяц именно над домом Каламидадес обязательно шел дождь. Через шесть лет после окончания засухи регион пережил нашествие смертельно опасных ос, но если бы вы спросили жителей Матамороса, как выглядят эти ужасные насекомые, они не смогли бы ответить. Осиный рой пронесся прямо над городской чертой, не оставив ни жертв, ни следов этой напасти.
В возрасте двадцати шести лет Каламидадес родила прекрасную дочь, которую доктор провозгласил самым здоровым ребенком из всех, кого ему довелось принимать. Каламидадес назвала девочку Викторией, чтобы та могла одерживать победу в любом начинании. Пребывая в уверенности, что дочь здорова, в безопасности и ей на роду написано побеждать, Каламидадес мирно скончалась во сне в свой тридцатый день рождения.
Виктория Оливарес оказалась неспособна добиться успеха ни в чем, за что бы ни бралась, и, чем выше были ставки, тем печальнее последствия. Она проваливала почти все экзамены в школе, оказывалась лишней, когда на детской площадке формировали команды, ни разу не выиграла в damas chinas[3] у двоюродной бабушки Дарии, с которой прожила десять лет, пока та не скончалась от старости. Сколько бы усилий она ни прикладывала – а усилий было немало, учитывая, как пострадал ее дух под гнетом жизненных обстоятельств, – Виктория раз за разом терпела неудачу. В пять лет она решила полетать, упала и сломала руку в трех местах. В пятнадцать впервые готовила себе обед и спалила дом. А в восемнадцать пристрастилась к азартным играм и до последнего цента просадила наследство, доставшееся от двоюродной бабушки.
Из-за того что Виктория так плохо училась в школе, она не смогла найти работу с приличной зарплатой, которая покрывала бы ее долги. Она начала занимать деньги под проценты, что стало спасательным кругом, но когда осознала, что в конце концов это ее и погубит, решила воспользоваться помощью Небес.
Пытаясь изменить судьбу, Виктория назвала свою дочь Ольвидо, в честь Nuestra Señora del Olvido – Девы Марии Забвения, надеясь, что все ее грехи, а самое главное, долги будут прощены и забыты. Но ничего подобного не произошло, и Ольвидо была вынуждена эмигрировать в Америку, спасаясь от ростовщиков, требующих все больше денег даже после смерти Виктории.
Неся на себе бремя ошибок матери, Ольвидо выросла женщиной суровой и злопамятной. Она не прощала и не забывала любую несправедливость, материнский эгоизм, неблагоразумные поступки мужа, а позже и промахи дочери. Единственной ошибкой, с которой Ольвидо научилась мириться, стало неправильное произношение ее имени американцами.
– Ол-вии-до, – пытались выговорить посетители закусочной, в которой она работала официанткой. – Очень красиво. А что это означает?
– Забвение.
Посетители обменивались удивленными взглядами и хихикали:
– Не может быть, чтобы это было настоящее имя.
– Очень даже может, – уверяла их Ольвидо, похлопывая по именному бейджу. – Поезжайте в Мексику, еще и не такое услышите. Вам тортильи из кукурузной или пшеничной муки?
Чтоб дочь не стала такой же безрассудной, как Виктория Оливарес, Ольвидо назвала малышку Ангустиас[4]. Она надеялась, что постоянное состояние тревоги заставит дочь думать, прежде чем действовать, и предотвратит новые несчастья в семье, однако произошло обратное. Ангустиас Оливарес росла веселой и беззаботной. В свой первый день в детском саду, когда другие новички рыдали, переживая из-за перспективы расстаться с родителями, Ангустиас утешала мать и уверяла, что с ней все будет хорошо. В то время как соседские дети дрожали от страха перед надвигающимся ураганом и наперебой рассказывали, как их родители накупили горы еды и заколотили дома, чтобы пережить конец света, Ангустиас играла на улице до тех пор, пока ветер не начинал сбивать ее с ног. В тот вечер, когда девочка впервые столкнулась с ураганом, Ольвидо пришлось затащить брыкающуюся и орущую Ангустиас в дом и заклеить дверные замки скотчем, чтобы та не сбежала.
В школу Ангустиас всегда приходила за минуту до начала уроков, к экзаменам готовилась в последний момент, перед учителями извинялась тоже в последний момент, чудом избегая взбучки в кабинете директора, но при этом никогда не испытывала ни тени беспокойства. Это чувство было абсолютно незнакомо Ангустиас, потому, когда ей исполнилось шестнадцать и она обнаружила, что беременна, радости ее не было предела. Ну а Ольвидо чуть не сгорела со стыда.
Имя следующей представительницы рода Оливарес появилось благодаря божественному вмешательству. Ангустиас сидела на пассажирском сиденье в машине своего парня и взахлеб рассказывала о фильме, на который они собирались пойти, как вдруг ей ужасно захотелось чего-нибудь кисленького: маринованных огурчиков, мармеладных червячков или лимонада. Она приказала другу остановить машину и развернуться – они проехали заправку несколько миль назад. Парень отказался под предлогом, что они опоздают в кино.
Ангустиас в бешенстве повернулась и потянула ручку дверцы на себя. Толкать дверь она не стала, но всем своим видом продемонстрировала серьезность намерений. Желание съесть чего-нибудь кислого становилось нестерпимым, так что она пригрозила выпрыгнуть из машины и пешком дойти до заправки, если он немедленно ее туда не отвезет.
– No quieres que tu hija salga con cara de pepinillo, ¿verdad?[5] – сердито спросила она.
Парень уставился на нее в недоумении. Он неплохо понимал испанский, но смысл мексиканских выражений обычно оставался для него загадкой.
– Если не утолять свои желания во время беременности, ребенок родится похожим на ту еду, которую тебе хотелось, – объяснила Ангустиас.
Друг сморщил нос:
– Ерунда какая-то.
– Вовсе нет, – возразила Ангустиас. Конечно, мексиканские народные приметы иногда звучали глупо, но они несли в себе мудрость сотен поколений. А с мудростью сотен поколений не поспоришь, если только ты не тупой и не безрассудный. Ангустиас можно было назвать безрассудной, но точно не тупой.
– Ну, допустим, тебе захочется манго.
– У ребенка будет желтуха.
Парень хихикнул.
– Это не смешно. Это, – Ангустиас ткнула пальцем в живот, давая понять, что речь идет и о ребенке, и о ее аппетите, – очень серьезно.
– Значит, если ты считаешь, что малышка будет похожа на огурец, у нее будут… прыщи?
– Возможно. А если над ней будут издеваться из-за этого? Ты сможешь с этим жить?
Парень закатил глаза, но все же помотал головой.
Один запрещенный поворот и десять долларов спустя Ангустиас наконец стала обладательницей кислых лакомств. Успокоившись, она смогла более вдумчиво поразмышлять над своим внезапным желанием. «Может быть, все не так буквально», – сказала она, отхлебывая лимонад. И тут ее осенило, причем столь же внезапно. Ангустиас ахнула от ужаса, а ее парень в изумлении вильнул влево и чуть было не врезался во встречный автомобиль.
Мироздание, или бог, или кто там отвечает за подобные знаки, сообщал Ангустиас, что ее дочь будет вечно недовольной и неприветливой особой, причем весьма неприветливой, учитывая обстоятельства. Ангустиас не желала мириться с тем, что такое ужасное предзнаменование может сбыться, и тут же решила, что назовет дочь Фелиситас[6].
Несмотря на знак свыше, Фелиситас Оливарес не стала угрюмым ребенком. Однако родилась она с кислым выражением лица. Увидев ее, акушерка сразу почувствовала осуждение и подумала, что, быть может, малышка вовсе не собиралась появляться на свет именно сейчас. Купая и пеленая Фелиситас, медсестры испытывали сомнения в правильности своих действий. Иначе почему ребенок выглядит таким расстроенным? Одна из них даже дала себе зарок хорошенько подумать, прежде чем заводить детей. Если ей настолько не по себе от недовольства чужого ребенка, как же она выдержит неодобрение собственного?
Теперь как минимум трижды в день Ангустиас приходится тереть лоб дочери, напоминая ей о необходимости перестать хмуриться.
– Ты станешь первой десятилетней девочкой в мире, у которой появятся морщины, – говорит она Фелиситас, отправляя ее утром в школу. Приподнимается, тянет руку через кухонный стол и разглаживает складочку между бровями.
– Ничего страшного. – Фелиситас отмахивается от ее руки. – Морщины – признак мудрости.
– Откуда ты знаешь? – удивляется Ангустиас. Не обращая внимания на протесты дочери, она тщательно проводит большим пальцем по бровям девочки. Как только Ангустиас садится обратно, дочь снова хмурится. Но это не повод для серьезного беспокойства. Утренняя хмурость Фелиситас не более чем скверная привычка, а вовсе не признак гнева. Ангустиас может судить об этом по бледно-желтому облаку над макушкой дочери. Более теплый тон был бы идеальным, но сейчас утро и ей надо идти в школу. Любой оттенок желтого можно считать благословением.
– Abuelita[7] Ольвидо очень мудрая женщина, – объясняет Фелиситас. – По крайней мере, так она утверждает, а лицо у нее сморщенное, как чернослив. Автобус пришел. Мне пора.
Фелиситас ставит грязную посуду в раковину, целует мать в щеку и выбегает из квартиры, оставив дверь широко открытой. Обычно Ангустиас кричит дочери вслед, чтобы та закрыла дверь, и желает хорошего дня, но сегодня что-то не так, что-то, чему Ангустиас не находит объяснения. Внутри прорастает маленькое семя беспокойства. Листочки прижимаются к ее нутру, ей кажется, что ее вот-вот стошнит. Она нюхает остатки молока в миске с хлопьями. Обычный запах. Это точно не отравление.
Ангустиас сидит на кухне и смотрит, как Фелиситас бежит к школьному автобусу, остановившемуся на противоположной стороне улицы. Она не меняет позы даже после того, как улица пустеет и ей остается лишь наблюдать, как сосед поливает растения. Он машет Ангустиас. Она безучастно смотрит в ответ.
Звук хлопнувшей двери возвращает Ангустиас к реальности, но лишь на мгновение. Она относит пустую тарелку в раковину и моет посуду, не переставая задаваться вопросом, откуда Фелиситас может знать, как выглядит ее бабушка. Последний раз Фелиситас видела Ольвидо, когда ей был месяц. Единственный образ бабушки, который может храниться в памяти девочки, – это старая фотография, сделанная в первый день рождения Ангустиас. Ольвидо тогда было тридцать шесть. Ни одной морщинки на лице.
Возможно, она неверно истолковала оттенок над головой Фелиситас и приняла жемчужно-белое безразличие за бледно-желтый предвестник радости. Значит, теперь Фелиситас относится к своей бабушке с безразличием? Что ж, безразличие – это хорошо, гораздо лучше, чем обида. А что еще там было, по краям облака? Переход цвета настолько плавный, что Ангустиас не может быть уверена, но, кажется, она заметила озорные красно-оранжевые всполохи, когда Фелиситас упомянула внешность Ольвидо. Вероятно, это была шутка. Фелиситас не может знать, как выглядит бабушка, поэтому забавно, что она представляет ее лицо «сморщенным, как чернослив».
В мысли Ангустиас вновь врезается посторонний звук, на этот раз пронзительный звонок мобильного телефона. Она благодарна за возможность отвлечься и с радостью отвечает, даже не проверив, кто звонит. Достаточно всего нескольких слов, чтобы от радости не осталось и следа.
– Ох, – выдыхает она, и рука ее взметается к дрожащим губам. – Да, да, я здесь. Я… я поняла.
С каждой жгучей слезой, катящейся по щекам, Ангустиас желает одного: чтобы этого момента не было. Она мечтает повернуть время вспять. Приказать себе не отвечать на звонок, не просыпаться, притвориться, что ничего не слышит. Но Ангустиас взяла трубку и услышала ужасную новость, от которой упала на колени и рыдает от боли. Она рыдает, пока рядом с ней не образуется целая лужа. Лужа превращается в пруд, пруд – в озеро. Просто чудо, что она вдруг перестает рыдать. Еще три слезинки – и она затопила бы всю округу.
Ангустиас остается на полу еще пятнадцать минут, хотя ей кажется, что пятнадцать часов. Как только одежда впитывает все ее горе до последней капли и слезы перестают течь, она встает, идет в спальню, делает несколько звонков, отправляет несколько электронных писем и собирает все свои вещи и вещи Фелиситас. Потом проходит по кухне и гостиной, пакует оставшееся и относит шесть коробок, два чемодана и увядающее растение к своей старой, но надежной зеленой машине.
Она уезжает и по пути останавливается лишь дважды: чтобы отдать ключи от квартиры взбешенному и одновременно растерянному хозяину и забрать Фелиситас из школы. К тому моменту, когда Ангустиас оказывается на площадке, где стоит Фелиситас с черным рюкзаком и стопкой библиотечных книг, слезы, пропитавшие ее одежду, высыхают. А печаль, поселившаяся в сердце, остается.
– Что происходит? – спрашивает Фелиситас, пристегивая ремень.
Ангустиас ободряюще ей улыбается и, прежде чем тронуться с места, устремляет взгляд в зеркало заднего вида. За ее спиной скрывается опасность. На заднем сиденье нетерпеливо ерзает угроза ее душевному спокойствию, причина ее сердечной боли, но она невидима для глаз Ангустиас. С притворной невозмутимостью Ангустиас посылает прощальный воздушный поцелуй и жмет на газ.
Глава 2
Фелиситас«А ты не могла подождать, пока закончится урок»? – возмущается Фелиситас, сердито глядя на Ангустиас. В отличие от мамы, которую так раздражает ее хмурость, сама она считает, что у кислой физиономии есть как минимум три преимущества. Во-первых, риск, что ее похитят, гораздо ниже. Похитители предпочитают милых наивных детишек, а этими словами уж точно не опишешь девочку с таким нахмуренным лбом, как у нее. Мне хорошо известно, что не так с этим миром. Опасность я чую за милю, сообщает всем выражение лица Фелиситас. Во-вторых, она легко выиграет конкурс по поеданию кислых конфет. Никто не заметит, как тебе неприятно, если у тебя и без того недовольный вид. Ну и в-третьих, ей не составляет труда демонстрировать маме серьезность своих намерений. Когда другие дети надувают губы – очаровательная гримаса, которая никого не впечатляет, – Фелиситас хмурится, причем делает это по-настоящему, по-взрослому.
– Тебе же не нравится в школе, – небрежно говорит Ангустиас.
– Нравится, когда мы смотрим фильмы по моим любимым книгам. – Фелиситас хмурится еще сильнее.
– Ну да, – Ангустиас бросает взгляд на дочь, – точно. Сегодня был день «Вечного Тука»[8]. (Фелиситас кивает.) Я понимаю, прости. (Выражение лица Фелиситас смягчается.) Знаешь что? Когда это путешествие закончится, мы устроим киновечер. Экран будет поменьше, но, по крайней мере, тебе не придется сидеть за партой на жестком стуле.
– Путешествие? – Фелиситас разворачивается, забирается коленками на сиденье и смотрит поверх подголовника. Сзади лежит большой синий чемодан с дыркой, заклеенной серым скотчем, а на нем черный чемодан поменьше с болтающимся сбоку брелоком в виде летучей мыши. Зубцы молний крепко прижимаются друг к другу, изо всех сил стараясь не уступить одежде, готовой вот-вот вырваться наружу. Сверху водружен Пепе, их увядающий дьявольский плющ, ремень безопасности обмотан вокруг керамического горшка. Ну а за водительским сиденьем еще и эта надоедливая незваная гостья.
Фелиситас садится обратно и поправляет ремень безопасности. Она вновь хмурит брови.
– Многовато вещей для выходных.
– Мы уезжаем не на выходные, – говорит Ангустиас и подмигивает ей. Фелиситас вскидывает голову. Незваная гостья пожимает плечами.
– А на сколько? – Фелиситас едва слышит свой вопрос, заглушаемый колотящимся сердцем.
– Навсегда, – отвечает мама.
Фелиситас непроизвольно улыбается. Ангустиас замечает это редкое явление, и на ее губах тоже появляется улыбка, однако быстро исчезает. Фелиситас снова хмурится.
Ничто не может обрадовать ее больше, чем возможность навсегда покинуть Оук-Хилл, штат Арканзас, но она же не вчера родилась. Она прекрасно знает, что есть масса вещей, о которых стоит позаботиться, прежде чем обычным пятничным утром срываться с места и отправляться неизвестно куда, чтобы начать новую жизнь. И об этих вещах ее мать, скорее всего, даже не подумала.
– А как же работа? – подает голос незваная гостья. – Спроси-ка ее.
Фелиситас чувствует раздражение. Спасибо, конечно, но она вполне способна образумить свою мать.
– А как же твоя работа? – спрашивает Фелиситас.
– Я отправила им электронное письмо, в котором вежливо сообщила, что увольняюсь.
– Ты не можешь так поступить! – восклицает Фелиситас.
Ангустиас пожимает плечами:
– Однако я это сделала. Все в порядке. Зарплату мне выдали в понедельник.
– А что с квартирой? – интересуется незваная гостья.
Фелиситас бросает на нее косой взгляд.
– А что с квартирой?
– Я вернула ключи и отдала деньги за этот месяц, – отвечает Ангустиас. – Слава богу, я не подписала договор аренды. Но задаток мне не вернули. Глупо было рассчитывать.
– Что насчет школы?
– В школу ты непременно продолжишь ходить.
– Но где?
– Там, куда мы приедем.
– А куда мы едем?
– Сейчас? В Грейс.
– Останови, ма…
Фелиситас выпрыгивает из припаркованной машины, и ее рвет прямо под плакатом «Возвращайтесь скорее!», обозначающим границу Оук-Хилла. Она поднимает голову, читает надпись и в ответ на призыв выплевывает остатки ланча.
Плакат прав. Им скоро придется вернуться, если мама все-таки одумается и поймет, что лучше не бросать работу с приличной зарплатой. Интересно, есть ли секретарские вакансии в Грейс? Сможет ли Ангустиас претендовать на какую-нибудь из них? Позволят ли ее коллеги оставлять Фелиситас в комнате отдыха или сажать за рабочий стол, когда школа закрыта на каникулы или из-за плохой погоды? Разрешит ли новый мамин босс приходить попозже, когда Фелиситас будет опаздывать на школьный автобус?
Скорее всего, нет, ведь доверие еще надо заслужить. Они в очередной раз станут приезжими чужаками.
А школа? Поднимет ли новая школа шум, узнав о ее прошлых прогулах? И где они будут жить? Смогут ли позволить себе хорошую квартиру, без вони и ржавых труб?
Вернувшись в машину, Фелиситас задает матери все эти вопросы. И ее снова начинает тошнить, когда на каждый Ангустиас отвечает «не знаю».
– Не смотри на меня так! – говорит Ангустиас, выпрямляя спину и приподнимая подбородок. – Я не знаю, потому что это не имеет значения. Мы едем в Грейс, но это временная остановка, пока я не пойму, где мы действительно останемся.
– Почему Грейс? – спрашивает Фелиситас, хотя догадывается об ответе.
– Там живет Abuelita Ольвидо… жила. – Голос Ангустиас срывается на последнем слоге, и на долю секунды Фелиситас чувствует, как в горле зарождается смешок, но такая реакция будет чересчур жестокой и подозрительной. Фелиситас крепко сжимает губы и надеется, что мама примет это за попытку не заплакать. Но в этом нет необходимости. Ангустиас слишком занята – сама изо всех сил старается сдержать слезы и не отрывает глаз от потолка машины. – Abuelita Ольвидо ушла из жизни сегодня утром, – произносит она, собираясь с духом. – Ты понимаешь, что это значит?
– Конечно. Мне десять, а не пять.
Ангустиас кивает. Кивок сводит на нет ее старания сдержать слезы. Она мгновенно превращается в гору скорби, по которой текут соленые жгучие реки.
Фелиситас очень редко видела маму плачущей. И почти всегда слезы так или иначе были связаны с Ольвидо. Разговор по телефону, письмо, старый предмет, пробуждающий воспоминания. Все, что напоминало об Ольвидо, и вести от нее самой неизменно нарушали беззаботное существование Ангустиас. Потому Фелиситас и поняла, что Ангустиас любила Ольвидо. Конечно, это казалось странным и бессмысленным. Но Ангустиас плакала, когда ей было не все равно. Она не плакала, когда их выселили из дома в Теннесси, когда ее уволили в Луизиане, когда она узнала, что ее парень в Нью-Мексико ей изменяет. Ангустиас уверяла, что ее это нисколько не волнует.
«Все это абсолютно неважно, пока мы вместе, здоровы и счастливы», – всегда повторяла Ангустиас после особенно неприятных событий. Фелиситас полагает, что когда дело касается Ольвидо, это правило не работает. Особенно теперь, когда Ольвидо ушла из жизни.
Фелиситас прекрасно знает, что значит «уйти из жизни». Мистер Кэмпбелл, их ближайший сосед в Редпойнте, штат Оклахома, все ей рассказал, когда она спросила, почему так много людей, одетых в черное, заходят в его дом. «Они пришли на мои похороны», – спокойно объяснил он.
Миссис Рид, миссис Томпсон и другие покойники, с которыми Фелиситас уже успела столкнуться, настойчиво пытались объяснить ей, что значит умереть, даже после того, как она сообщала, что хорошо разбирается в этом вопросе. Старики любят объяснять, она это рано поняла, а мертвые старики особенно настойчиво добиваются, чтобы их объяснения были услышаны, – вероятно, потому что это почти невыполнимая задача. Они могут говорить и подавать какие угодно знаки, но близкие их не услышат. Даже не повернутся в их сторону. Они просто будут шептать имена своих дорогих усопших и проводить пальцами по их лицам, увековеченным на фотографиях, оставляя разочарованных мертвых в полном одиночестве. А Фелиситас, испытывая жалость к покойникам, вежливо предоставляла в их распоряжение свои уши, глаза и понимающее сердце.
Со временем Фелиситас научилась давать смерти самые разные объяснения – прямые и косвенные, научные и религиозные. Однако ее мама не может этого знать. Фелиситас никогда не обсуждает с ней свою способность видеть духов. Она боится, что Ангустиас начнет беспокоиться о ней или, что еще хуже, вообще не придаст этому значения.
И уж точно ни при каких обстоятельствах нельзя рассказывать Ангустиас о том, что – а точнее, кого – она видела в то утро. Случившемуся нет никакого подходящего объяснения: ни прямого, ни косвенного, ни научного, ни религиозного.
Фелиситас, как обычно, проснулась рано, чтобы сварить маме кофе, причем Ангустиас считает, что дочь делает это из любви. Она права, но лишь отчасти. Готовя ей кофе каждое утро, Фелиситас крадет немного для себя. Без сливок и сахара. Она не любит заглушать горчинку, которая ощущается в горле и вызывает приятное покалывание в кончиках пальцев.
– Почему бы просто не сварить себе чашечку?
Фелиситас резко обернулась, ища источник голоса. Горячий кофе выплеснулся на черное платье и обжег кожу над пупком.
– Тебе разве не больно?
Приоткрыв рот, Фелиситас помотала головой. Она ожидала увидеть совершенно незнакомого человека, духа, случайно забредшего в дом. Однако сидевшая перед ней женщина была лишь наполовину незнакомкой, с чьим сердцем Фелиситас никогда не доводилось соприкасаться, но чьи глаза нередко проникали в ее сны. Даже в обрамлении морщин эти карие глаза были безошибочно узнаваемы. Сотни часов, проведенных за разглядыванием одной-единственной фотографии, не прошли даром.