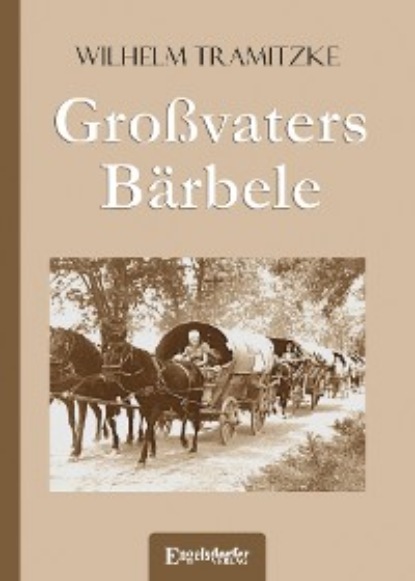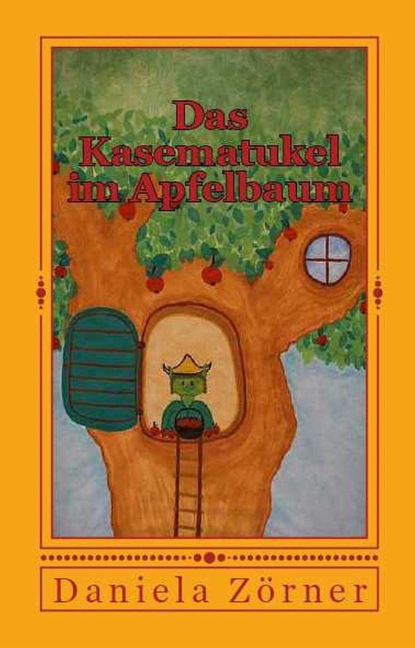- -
- 100%
- +
Описаний было недостаточно. В воображении Фелиситас рисовала сказочный старушечий домик с вязаными салфетками, антикварными статуэтками, вышитыми подушками, букетиками искусственных цветов, запахом корицы и духов. Но дом Ольвидо выглядит совершенно иначе.
В нем, конечно, все поизносилось, но по стилю он далек от старушечьего. Что и понятно, ведь Ольвидо на самом деле была не так уж стара. Да, у нее были морщины и седые волосы, но лицо ее точно нельзя было сравнить с черносливом. На момент смерти Ольвидо было всего шестьдесят два, вовсе не такая старая, как восьмидесятидевятилетняя миссис Рид, которая нуждалась в зубных протезах, чтобы пережевывать пищу, или семидесятитрехлетний мистер Келли, у которого на блестящей голове осталось всего несколько седых волос.
– Я загляну через пару часов и принесу вам завтрак, – говорит Самара, кладя руку на плечо Ангустиас.
– Нет-нет, не беспокойтесь. – Ангустиас благодарно улыбается. – Мы, наверное, проспим до обеда.
– Хорошо, тогда я приду с обедом.
– Не надо, спасибо, – отказывается Ангустиас. – Может, мы придем к вам на ужин?
– Чудесно! Обычно мы ужинаем в шесть, но приходите, как только проголодаетесь. Помочь вам устроиться?
– Нет-нет, – говорит Ангустиас, быстро преграждая Самаре дорогу. – Вы, наверное, тоже очень устали. К тому же в этом доме я точно смогу сориентироваться.
– Уверены?
– Да. Спасибо вам. За все.
Самара кивает.
– Я буду по соседству, если понадоблюсь, и не забудьте про ужин.
– Мы в самом деле пойдем к ним на ужин? – спрашивает Фелиситас, едва закрывается дверь.
– Посмотрим, – отвечает Ангустиас и неуверенно качает головой. – Так странно слышать английскую речь в этом доме.
– Можем говорить по-испански, если хочешь.
Фелиситас надеется, что Ангустиас откажется. Испанский всегда был их тайным языком, но сейчас все иначе. Если они будут говорить по-испански, Ольвидо прекрасно их поймет, а Фелиситас не хочет никого посвящать в свои разговоры с мамой. Она не желает делить ее ни с кем.
– Нет, все нормально. Давай-ка переоденемся. Уже поздно… или рано. Пора спать.
– Где здесь ванная?
– Первая дверь налево. Только сразу договоримся. Ни в одну из спален пока не заходим, хорошо?
Фелиситас хмурится:
– Тогда где же мы будем спать?
– В гостиной. – Ангустиас зевает – то ли чтобы закончить разговор, то ли потому, что действительно устала. Фелиситас не сопротивляется. За последние двадцать четыре часа она и так уже навоевалась. Лучше бы они просто переночевали у Самары.
Девочки Оливарес тихо переодеваются в свои пижамы – одинаково потрепанные свободные футболки и баскетбольные шорты с ослабленной резинкой. Они чистят зубы, залезают на отдельные диваны и закрывают глаза, но, несмотря на усталость, ни одна из них не засыпает. Фелиситас чувствует на себе взгляд бабушки, готовой наброситься на нее, как тигрица, стоит Ангустиас погрузиться в глубокий сон.
Хлюпающие звуки заставляют Фелиситас открыть глаза. Она переворачивается на другой бок и видит, что Ангустиас лежит, уставившись в потолок. Беззвучные слезы текут по ее лицу, затекая в уши. Нижняя губа дрожит, а плечи трясутся.
Не задавая вопросов – все и так понятно, – Фелиситас пересекает гостиную, ложится рядом с мамой и обнимает ее за талию. От этого прикосновения Ангустиас начинает плакать еще сильнее. Она закрывает рот рукой, пытаясь заглушить рыдания, но поединок неравный, и она терпит поражение.
– Я сегодня даже не надела черное, – шепчет Ангустиас между всхлипами.
Фелиситас похлопывает ее по руке:
– Можешь одеться в черное завтра.
Они лежат обнявшись, пока Ангустиас наконец не засыпает. На ее мокрых щеках отражается лунный свет, пробивающийся сквозь жалюзи. К лицу Ангустиас тянется чья-то рука.
Фелиситас пытается шлепнуть по ней, прежде чем рука достигнет цели, но не успевает.
– Ты меня ударила? – изумляется Ольвидо.
Фелиситас кидает на нее сердитый взгляд.
– Я тебя не трогала. – Она идет к своему дивану, ложится и с головой накрывается одеялом.
– Не вздумай спать! – восклицает Ольвидо. – Ты выспалась в дороге.
Но Фелиситас кажется, что она вообще не спала с момента рождения. Ей хочется, чтобы Ольвидо уснула навечно, навсегда, потому что «навсегда» невозможно измерить, а то, что невозможно измерить, не должно существовать.
И все же оно существует. Вот она, ее бабушка, зовет ее по имени. Это необъяснимо, как и то, что Фелиситас способна видеть невидимое и отчаянно нуждается в теплоте той, кто никогда не одаривал ее ничем, кроме холода.
Глава 9
ОльвидоФелиситас лежит неподвижно, укрывшись одеялом с головой. Ольвидо пытается стянуть его и заставить внучку повернуться к ней лицом, но ее пальцы просачиваются сквозь ткань. Ольвидо знает, что дело не в одеяле. Дело в ней. Она продолжает висеть между двумя мирами.
Ольвидо не отваживается рассказать Фелиситас о своих проблемах с осязанием из-за страха показаться слабой. Дети не испытывают уважения к слабым бабушкам, потому что им еще не знакомо сочувствие. Они понимают только силу, когда их бьют по заднице твердой рукой или тапком. Ее внучка не подозревает, что сумочку, упавшую в машине ей на колени, столкнула вовсе не Ольвидо, просто Ангустиас попала колесом в выбоину. В тот момент Ольвидо протянула руку, пытаясь заставить живой мир отреагировать на ее прикосновение. Она потерпела неудачу, но хотя бы сумела разыграть спектакль.
Однако долго притворяться не получится. Фелиситас, похоже, умная девочка. Она явно унаследовала ее гены, и, хотелось бы надеяться, не только раздражительность, но и мозги.
Ольвидо наклоняется и шепчет внучке на ухо:
– Фелиситас, Фелиситас, Фелиситас.
Она повторяет имя в течение пятнадцати минут, затем начинает беспокоиться, не убаюкал ли голос девочку, но на сто восемьдесят первом упоминании ее имени Фелиситас неохотно откидывает одеяло и садится. Она жестом дает понять, что бабушка может говорить.
– Какая ты невоспитанная! Нельзя было позволять Ангустиас растить тебя одной.
Понимая, что ввязывается в ненужный разговор, Ольвидо поправляет волосы, разглаживает блузку и поспешно меняет тему:
– По крайней мере, ты надела черное в память обо мне.
– Я каждый день ношу черное. Чего ты хочешь? – шепчет Фелиситас. Голос у нее тихий, но недовольство звучит громко и отчетливо.
Ольвидо демонстративно встает.
– Почему ты до сих пор не сказала матери, о чем я просила? У тебя была уйма времени, – шепчет она в ответ, хотя никто, кроме внучки, не может ее услышать.
– Мама не знает, что я вижу духов, и я не хочу ей об этом рассказывать.
Это кажется Ольвидо вполне разумным. Она и сама двадцать семь лет не рассказывала дочери о своих мыслях и чувствах, о тайных надеждах на будущее и уж тем более о том, что было в прошлом. Фелиситас она тоже не намерена ни о чем рассказывать. Свое прошлое она унесет с собой на небеса, а Фелиситас останется на земле, сохранив в памяти благочестивый образ бабушки, как и положено.
Ольвидо уже попросила прощения у Бога. В милости внучки она не нуждается, та лишь должна проявить уважение – помочь бабушке уговорить Ангустиас исполнить ее последнее желание, ну и, возможно, время от времени зажигать за нее свечу на случай, если в раю наступят тьма и беспорядок во время гроз и ураганов.
– Что ж, тебе придется.
– Нет.
– Да. – Ольвидо сжимает кулаки и пытается наказать свои бесполезные ладони острыми ногтями.
– Нет. Если только… – Фелиситас оглядывается на спящую мать и снова поворачивается к Ольвидо: – Ты хочешь с ней поговорить? Если я ей признаюсь, что вижу тебя, она захочет с тобой пообщаться. Наверняка вам есть что сказать друг другу.
Ольвидо молчит, а Фелиситас улыбается, полагая, что одержала победу. Однако ей невдомек, что упрямство, которое она унаследовала от мамы, та унаследовала от Ольвидо. В том, чтобы оставлять последнее слово за собой, Ольвидо гораздо опытнее Фелиситас.
– Ну, раз ты не желаешь говорить ей, что мое тело следует отправить в Мексику, я никогда не попаду в рай, а если я не попаду в рай…
Фелиситас радостно хлопает в ладоши:
– Ты попадешь в ад?
Ольвидо закипает от негодования.
– Я останусь здесь!
– То есть в ад попаду я.
Ольвидо хочет еще раз возмутиться столь дерзким поведением, но быстро соображает, что именно такой настрой ей нужен от Фелиситас. Она придвигается поближе к лицу внучки и тем же тоном, которым обычно обращалась к Ангустиас, угрожая поркой, говорит:
– Да, именно, так что тебе лучше найти способ все ей сказать и убедиться, что меня отвезут в Мексику. Понятно?
Фелиситас хмыкает и встает с дивана.
– А ты можешь поднимать вещи своими призрачными руками? – спрашивает она, шевеля пальцами перед бабушкиным носом.
Ольвидо усмехается.
– Не называй их «призрачными», и да, могу. – Однако, вместо того чтобы доказать свое утверждение на практике, она скрещивает руки на груди.
Фелиситас тянется за декоративной подушкой, лежащей рядом с ней.
– Лови! – Она подбрасывает подушку и с лукавым видом наблюдает, как та пролетает сквозь грудь Ольвидо, прямо сквозь ее сердце.
Несмотря на отсутствие боли, Ольвидо в ужасе.
– Что ты себе позволяешь?
– Не хочешь еще раз попробовать? – дразнит ее Фелиситас.
– Что?!
Фелиситас бросает вторую подушку. Ольвидо уворачивается. Озорно улыбаясь, Фелиситас выбегает в коридор, Ольвидо спешит за ней.
– Ты соврала! – восклицает Фелиситас, как только они оказываются там, откуда Ангустиас ничего не услышит. Ольвидо фыркает, но не пытается придумать очередную ложь. – Что ж, мой план провалился.
– Какой еще план? – удивляется Ольвидо, отказываясь смотреть на внучку.
– Чтобы ты написала маме письмо.
Ольвидо усмехается:
– Если бы я могла это сделать, как думаешь, стала бы я обращаться к тебе за помощью?
Фелиситас вздыхает.
– У тебя есть бумага и ручка? Я напишу за тебя.
Ольвидо косится на свою записную книжку.
– Думаю, она сможет отличить мой почерк от почерка пятилетнего ребенка.
– Мне десять.
– А ведешь себя как пятилетняя.
– У меня отличный почерк, – настаивает Фелиситас. – И я могу его изменить, сделать дрожащим. Ты уже старая, так что мама поверит, что это ты накарябала.
– Что ж, ладно. Давай попробуем, – соглашается Ольвидо и показывает на дверь, ведущую в ее спальню. – Если что, придумывать объяснение придется тебе.
Стараясь не скрипеть, Фелиситас осторожно открывает дверь. Ольвидо с любопытством заглядывает внутрь. Ее кровать застелена. Подушки взбиты.
– Где? – спрашивает Фелиситас.
– В тумбочке. В первом ящике. Там ручки и бумага. Нет, это не бери. Это моя телефонная книга.
Фелиситас хмыкает и роется в поисках бумаги.
– Вряд ли она тебе еще понадобится.
Положив разорванный конверт на тумбочку, Фелиситас начинает аккуратно писать:
Умоляю. Пожалуйста, оставь меня в покое.
Ольвидо наклоняется к ней и прищуривается. Предложения на английском.
– Что здесь написано?
Фелиситас ухмыляется.
– Ты разве не знаешь? – невинно спрашивает она.
Ольвидо прекрасно понимает, что она имеет в виду. Фелиситас не просто чужой ей человек. Она совершенно необъяснимое явление. Ангустиас никогда бы не осмелилась насмехаться над ее навыками чтения. Как она могла воспитать такую наглую девчонку?
– На мне нет очков для чтения, – коротко объясняет Ольвидо.
– Разве смерть не должна была решить все твои проблемы со здоровьем?
Так я и знала, думает Ольвидо. Фелиситас не проявляет к ней ни сочувствия, ни уважения. Жаль, она не может снять туфлю и пригрозить отлупить девчонку.
– Понятия не имею. Я умерла впервые, – говорит Ольвидо, выпрямляя спину. – А теперь слушай внимательно. Вот что тебе нужно написать.
Глава 10
АнгустиасВпервые Ангустиас увидела цветное облако в свой одиннадцатый день рождения. Она не помнит, чтобы до этого замечала над чьей-либо головой что-то похожее на нимбы святых, которым молилась ее мать, но в тот вечер, ровно без пяти семь, когда солнце уже менялось местами с луной, она отчетливо увидела разные цвета.
Все началось с отца.
Отец Ангустиас не был ужасным человеком, но и замечательным его нельзя было назвать. Его постоянное отсутствие и равнодушие никогда не беспокоили Ангустиас – загадочный побочный эффект ее особенного имени. Но когда он врал, ей нестерпимо хотелось пнуть его, наступить ему на ногу и закричать: «Ты самый ужасный человек на свете», хотя это тоже было ложью. «Не приходи сюда больше!»
По мнению Ангустиас, врут только тем, кто настолько глуп, чтобы вранью поверить, и хотя многие считали Ангустиас глуповатой, ее отец не должен был входить в их число. Отцу положено думать, что его ребенок вырастет и станет президентом, откроет новую планету или изобретет лекарство от рака. Отец не должен рассчитывать, что ребенок поверит в его недельную командировку, когда этот ребенок точно знает, что у отца нет собственного бизнеса, а на любой работе он не задерживается дольше нескольких месяцев, поэтому ни один здравомыслящий бизнесмен никогда не пошлет его ни в какую командировку. Но именно это сказал отец Ангустиас в тот предпоследний раз.
Ржаво-коричневое облако появилось над его макушкой прежде, чем он успел договорить. Ангустиас понятия не имела, что это значит, и понадеялась, что загадочное облако быстро рассеется, как туман под лучами солнца. Но в этом ржавом цвете было что-то, что разожгло ее любопытство.
Ржавчина не предвещает ничего хорошего. Ржавчина – это старость и отсутствие заботы. Ржавчина опасна, если она на гвозде, гвоздь протыкает твою грязную стопу, а мама выясняет, что произошло это потому, что ты опять не обулась, хотя она без конца твердила тебе, что нельзя бегать босиком.
– Это называется столбняк, – сказала ей Ольвидо, обрабатывая ранку на колене. Ангустиас споткнулась о цементный блок на строительной площадке за их домом. По словам Ольвидо, в недостроенное здание запрещено было заходить босоногим девочкам с именем на букву «А». Строители не удосужились повесить предупредительную табличку, полагая, что матери сами расскажут об этом своим дочерям, а дочери будут слушаться. – Столбняк вызывает не ржавчина, а маленькие бактерии, которые проникают через рану в твое тело. Они плывут на лодках по красным рекам в твоих венах, все выше и выше, и когда достигают мозга и привязывают свои плоты к причалу, где твои клетки усердно работают, позволяя тебе дышать, двигаться и играть, – БУМ! Ты падаешь замертво.
Нижняя губа Ангустиас задрожала, и она прошептала:
– Я могу умереть?
– Ну, необязательно, – допустила Ольвидо. – Сначала твое тело будет корчиться всевозможными способами. – Ольвидо скрючила руки и изогнула спину так, чтобы смотреть на Ангустиас лишь уголком правого глаза. – А потом ты застынешь в одной позе, навсегда. И знаешь, где прежде всего возникнут проблемы?
– Где?
– Во рту. Ты не сможешь говорить.
Ангустиас ахнула.
– Но я люблю поговорить.
– Знаю, что любишь. Если не будешь лечиться, можешь умереть.
Ангустиас в ужасе уставилась на мать.
– Так чего ты больше никогда не будешь делать? – спросила Ольвидо.
– Бегать босиком, – быстро ответила Ангустиас. Это была неправда, но она имела право соврать, потому что вовсе не считала Ольвидо глупой. Просто у нее не хватило духу признаться, что ей уже сильно жмут туфли.
– Что случилось? – спросила Ангустиас у отца, услышав его предпоследнюю ложь.
– Ты о чем? – удивился он.
– Что-то… не так. – Она помахала рукой над его головой, пытаясь прогнать цветное облако. Отец быстро заморгал, словно не мог долго выдерживать скептический взгляд дочери. Она наклонилась к нему и прошептала: – Ты мне врешь?
Уже не очень трезвый отец Ангустиас попятился, сбитый с толку вопросом, и, заикаясь, пробормотал: «Н-нет». Это была его последняя ложь, сказанная дочери. Она пнула его в левую ногу, наступила на правую и закричала:
– Ты самый ужасный человек на свете! Не приходи сюда больше!
Отец послушался, но вовсе не из-за ее приказа. Несколькими днями ранее любящие посплетничать прихожанки рассказали Ольвидо, что ее мужа видели поздно вечером выпивающим в баре дона Григорио. Спустя пару часов он уехал с женщиной на высоченных каблуках, в немыслимо короткой юбке и такой обтягивающей блузке, что даже самые благочестивые мужчины не оторвали бы от нее взгляда – осуждающего или вожделеющего, одному Богу известно.
– И это не в первый раз, – заметила донья Хосефа. – Да и девушки всегда разные. – Она не потрудилась ни снизить голос, ни скрыть усмешку.
Отцу Ангустиас позволялось навещать ее по выходным и праздникам, если он заранее спрашивал разрешения у Ольвидо. В тот год он навестил ее четыре раза, два раза – на следующий, а еще через год лишь раз позвонил. Пьяный и отчаявшийся, он умолял ее дать ему денег, которые ей подарили на день рождения, но денег у нее не было, поскольку в подарок она получила только туфли.
В течение года после того, как Ангустиас впервые увидела цветное облако, она сделала пятьсот семьдесят пять исправлений в записях на полях учебников по естествознанию и истории, пытаясь создать что-то вроде пособия. Общаясь с матерью, соседями, учителями, одноклассниками, продавцами супермаркета и почтальоном, Ангустиас постепенно разбиралась в значении цветов. Она поняла, что у темно-синего есть несколько оттенков и говорят они о разном. Лососевый и розовый сигнализируют о возбуждении, но отличаются по уровню энергии. Коричневый предупреждает о страхе, пусть даже это цвет многих замечательных вещей – например, кофе с корицей или морского загара. Желтый всегда означает радость, а его оттенки – разную интенсивность этого чувства. Облака редко бывали одноцветными. Некоторые казались менее прозрачными, цвета других Ангустиас никогда раньше не видела, но ни одно ни разу не появилось над ее собственной головой.
Ангустиас не может не замечать цвета́, но не застрахована от неверного их толкования. Нет, багровый оттенок в ауре Фелиситас сообщал вовсе не о том, что она злится из-за решения матери уехать. Вероятно, это была досада из-за невозможности добиться идеальной посещаемости – цель, которую она поставила перед собой в начале третьего класса. А грифельно-серый не отражал грусть, когда Ангустиас сообщала Фелиситас, что Ольвидо уже повесила трубку, не дождавшись внучку. Да и цвет там был скорее голубым, чем серым, означавшим разочарование, а не брошенность. Не может Фелиситас чувствовать себя брошенной бабушкой, которую она видела в течение всего нескольких недель, ее мозг еще не имел способности сохранять воспоминания, а сердце было слишком неискушенным, чтобы чувствовать что-то, кроме любви.
К счастью для всех, кроме самой Ангустиас, на следующий день после смерти Ольвидо ее неосознанная ошибка в интерпретации цвета оказывается на руку другим членам ее семьи. Когда Ангустиас просыпается и видит, что Фелиситас смотрит в потолок широко открытыми глазами, она принимает ее небесно-голубую решимость за светло-голубую усталость.
– Не спалось? – бормочет она.
– Я нормально выспалась, – отвечает Фелиситас.
Ангустиас вздыхает:
– А я почти не спала.
– Ага, конечно. Ты храпела как медведь.
– Я не храплю! – возмущенно кричит Ангустиас и швыряет подушку через всю комнату. Фелиситас ловит ее в воздухе.
– Как скажешь. Ты хочешь есть? – Фелиситас спрыгивает с дивана – оказывается, она уже одета. Черные шорты, черная майка, черная резинка для волос.
Ангустиас перекатывается на другой конец дивана, оборачивая вокруг себя одеяло, и соскальзывает на пол.
– Нет, есть я не хочу. Я вообще ничего не хочу, – хнычет она. – Хотя нет, хочу кофе.
– Кофе здесь нет, я искала. Давай сходим к тете Самаре, но тебе надо переодеться или хотя бы надеть лифчик.
Ангустиас поднимает голову и смотрит на Фелиситас.
– А может, ты сходишь и принесешь мне немного? – предлагает она, хлопая глазами.
– Хорошо, – соглашается Фелиситас, уже направляясь к выходу. – Но пока меня не будет, тебе не мешало бы заняться уборкой. Проверь сначала стиралку.
Ангустиас начинает с кухни, но только после того, как возвращается Фелиситас с чашкой горячего кофе и тостами с сыром и мармеладом. Затем ей требуется два часа, чтобы признать кухню убранной, что совершенно необъяснимо, ведь и до их приезда особого беспорядка там не было. Но они подметают пол, расставляют чистую посуду по местам, протирают все поверхности и полируют ручки шкафчиков. Открывают кладовку и проверяют дату на каждой банке и коробке. Ничего просроченного. «Давай еще раз проверим», – говорит Ангустиас, и Фелиситас, нахмурившись, подчиняется.
Наконец они переходят к холодильнику. Внутри обнаруживаются стопки пластиковых контейнеров с подписанными именами, незнакомыми Фелиситас. Эмилио. Эстефания, Саломон, Рауль, Херонимо. Талия.
Фелиситас проверяет содержимое через прозрачное дно.
– Это picadillo[31] с рисом.
– А вот и бесплатный обед, – напевает Ангустиас, пританцовывая плечами.
Фелиситас улыбается и кивает, но тут же мрачнеет. Облако над ее головой окрашивается бордовым недовольством.
– Это не наше. – Она убирает контейнеры обратно в холодильник и закрывает дверцу, прежде чем Ангустиас успевает запротестовать.
Когда Ангустиас принимается счищать черную плесень с краев кухонной раковины, Фелиситас объявляет, что ей нужно отлучиться в туалет. Ангустиас не поднимает глаз и едва слышно бормочет «хорошо», как будто ее мозг способен сосредоточиться только на одной задаче.
Туда.
Сюда.
Движения ее быстры, и рука дрожит от напряжения, но она готова скрести вечно. До тех пор, пока от дома не останется ничего, кроме деревянного каркаса и цементного фундамента, но даже тогда картину будет портить застарелая плесень ее воспоминаний.
Внезапная боль заставляет ее остановиться. Она прислоняется спиной к кухонной стойке и медленно сползает вниз, пока не касается холодного кафельного пола.
– Фелиситас? – зовет она.
– Иду!
Ангустиас слышит голос дочери. Перед ее глазами возникает аура Фелиситас. Теперь это кобальтово-синий цвет сосредоточенности, который обычно появляется над ее головой, когда она делает домашнюю работу по математике или читает детектив о преступлении, которое невозможно раскрыть.
– Что ты там делала?
– Что я делала в туалете? – поднимает брови Фелиситас.
– Ладно, неважно. – Ангустиас протягивает руку, чтобы дочь помогла ей встать. Ей надо есть больше клетчатки, думает она и добавляет пшеничные отруби в свой мысленный список продуктов.
– Мы закончили с кухней? – нетерпеливо спрашивает Фелиситас. Ее глаза загораются, когда Ангустиас отвечает, что да, но сразу тускнеют, когда она слышит, что пришло время прибраться в гостиной.
Ангустиас осторожно выходит в коридор. В своем нынешнем состоянии дом кажется таким же хрупким, каким когда-то было терпение ее матери. Здесь темно и тихо. Одно лишь движение, подозревает она, и окна разлетятся вдребезги, а стены обрушатся.
Это точно не ее дом. Здесь не звучит музыка, не слышно ни криков, ни плача. Из кухни не доносится запах разогретых остатков еды, а в гостиной не витает аромат благовоний. Это дом Ольвидо, и Ангустиас – незваная гостья, причем даже не любопытная.
Вытирая пыль со столиков, Ангустиас старается не задерживать внимание на фотографиях. Достаточно беглого взгляда – и вспоминается каждая деталь. На одном из снимков она видит себя со следами шоколадного торта на одежде, губах и щеках. Это был ее первый день рождения, и она осталась без присмотра всего на секунду дольше, чем следовало. Ее озорная улыбка намекает на то, что именно этого она и хотела. А вот выпускной в детском саду. Ангустиас не улыбается. У Ольвидо непривычно гордый вид, она крепко обнимает дочь обеими руками. Еще на одном снимке пятнадцатилетие[32] Ангустиас. Вечеринка проходила на заднем дворе. Гости сидели на пластиковых стульях и ели из бумажных тарелок, без всяких формальностей, и все же Ольвидо настояла, чтобы Ангустиас надела пышное розовое платье и диадему. Платье одолжила ее троюродная сестра Мартина. Диадема была куплена в магазине «все по доллару». Ольвидо и Ангустиас три дня ссорились из-за ее наряда. Спустя ровно год и пять месяцев они уже ссорились из-за беременности Ангустиас.
– По-моему, пора перейти к спальням, – говорит Фелиситас, бросая тряпку на журнальный столик. Над ней нависает бордовое облако, указывающее на то, что она расстроена.
– Не пора, – невозмутимо отвечает Ангустиас. – Ты здесь пятно пропустила.
– Не-ет, – ноет Фелиситас, – пойдем в спальни. Мы убрали все, кроме них. Ты же не можешь вечно их избегать.