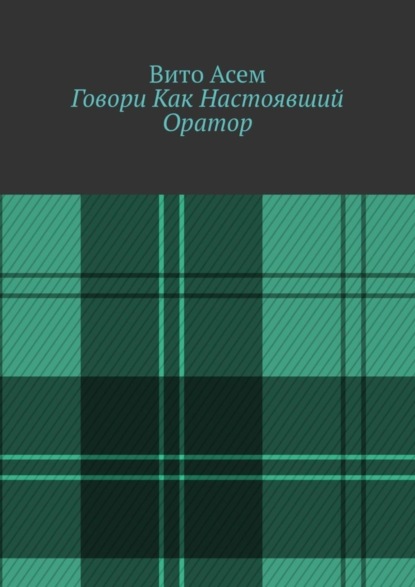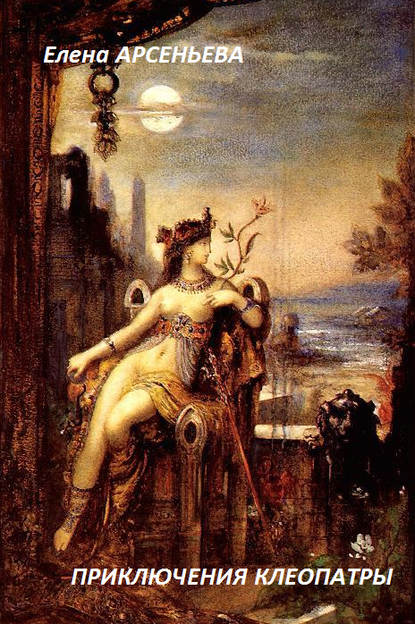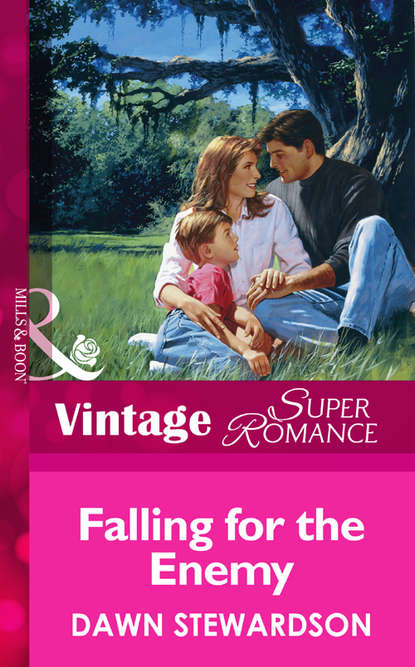- -
- 100%
- +
– А как насчет ванной в коридоре и заднего двора? Разве ты не говорила что-то о стиральной машине? И ничего я не избегаю.
– Твоя спальня или бабушкина? У нас только два варианта.
– Фелиситас, я сказала «нет».
Фелиситас топает ногой и демонстративно скрещивает руки:
– А я сказала «да».
Ангустиас резко поворачивается к дочери:
– Повторяю, я сказала «нет».
В три быстрых шага Фелиситас выскакивает из гостиной. Она бежит по коридору, ее темные волосы развеваются за спиной, как флаг, оповещающий о начале войны.
– Фелиситас, нет! – кричит Ангустиас, но уже слишком поздно. Фелиситас добегает до спальни Ольвидо и врывается внутрь.
Ангустиас медленно направляется туда, стараясь не потревожить мать, которая сидит на краю кровати и улыбается так, словно терпеливо ждала ее возвращения последние десять лет. А вот она стоит у окна и спокойно читает Библию. Расчесывает волосы перед туалетным столиком. Складывает одежду на кровати. Здесь и ее аура с постоянно меняющимися цветами. Розовый, красный, желтый, всегда с примесью серого.
– Я читала, когда человек умирает, нужно показать в морге его свидетельство о рождении, – говорит Фелиситас. – Как думаешь, где оно лежит? В шкафу?
Пока Фелиситас роется среди жакетов и платьев, Ангустиас не может удержаться и начинает ходить по комнате. Повсюду следы Ольвидо. В расческе, лежащей у зеркала, четках, наброшенных на стеклянный подсвечник, в упавшей помаде, в пудре.
Но самой Ольвидо в комнате нет. Будь она тут, давно бы уже указала на миллион дел, которыми должна заняться Ангустиас. «У тебя есть план? Неужели ты не думала о моих похоронах? Ты даже не беспокоишься? Какая неожиданность!»
Ангустиас подходит к прикроватной тумбочке и выдвигает верхний ящик. Ее пальцы начинают шарить по его содержимому, то и дело натыкаясь на квитанции, записки, сломанные карандаши и высохшие ручки.
– Мама, а это что? – Фелиситас наклоняется к Ангустиас и берет сложенный лист кремового цвета, который Ангустиас отбросила в сторону. – Querida Angustias, tengo el presentimiento…[33]
Ангустиас выхватывает листок из рук дочери. «Прости», – бормочет она и молча читает про себя. Она не замечает, как Фелиситас выходит из комнаты. То, что она видит, полностью завладевает ею. Она не чувствует ничего, кроме гладкой бумаги в пальцах, и не слышит ничего, кроме последних слов Ольвидо.
Глава 11
ФелиситасЖизненный опыт Фелиситас подсказывает, что от писем не следует ждать ничего хорошего. Например, письма от домовладельцев или официальные уведомления от всяких учреждений предвещают проблемы. Я повышаю арендную плату! Письма от учителей влекут за собой расходы. Будьте добры, передайте с Фелиситас кексы для нашего праздника в честь окончания учебного года. Без орехов и лактозы, пожалуйста. Отсутствие писем в День святого Валентина говорит о том, что у нее нет друзей, а отсутствие писем в день рождения подчеркивает, насколько мала ее семья. Письма, как и сама Ольвидо, раздражают, так что Фелиситас не стоит удивляться, что письмо, написанное Ольвидо, может вывести из себя даже всегда довольную Ангустиас.
Но ей предстоит удивиться. Все, что касается Ольвидо, абсолютно ново для Фелиситас, и бабушка не перестает поражать.
– ¡Niña![34] – вздрагивает Ольвидо, когда Фелиситас брызгает водой, целясь ей в лицо. – Что-то не так, – говорит она, вытирая то место, куда должны были бы попасть капли. – Она выбросила письмо.
Фелиситас не слышит последней фразы. Она уже бежит в спальню Ольвидо.
– Мама, что случилось? – спрашивает она, подходя к матери, которая сидит около тумбочки, но письма в ее руках уже нет.
– Сюда, – зовет Ольвидо из угла комнаты.
Достав письмо из мусорной корзины, Фелиситас делает вид, что бегло прочитывает его, и бросает обратно. Представь, что тебе приходится перечитывать его миллион раз, хочет сказать она, но решает промолчать, как и накануне вечером.
Она писала этот текст быстро – правда, ее без конца прерывала Ольвидо.
– Cieló[35] пишется не так. В последнем слове знак ударения ставится над «о». Я бы никогда так не ошиблась.
Фелиситас прикусила язык. Молчание увеличивало вероятность, что Ольвидо последует ее примеру.
– Разве твоя мама не учила тебя всегда ставить точки над «i»?
Фелиситас сжала зубы сильнее. Еще одно замечание – и она прокусит язык до крови.
– Тебе не кажется смешной моя шутка? А ты уверена, что ты дочь своей матери?
Фелиситас продолжала сжимать зубы, пытаясь хоть так сдержать свой гнев.
Когда Ольвидо наконец произнесла: «Ладно, думаю, на этом остановимся», Фелиситас почувствовала металлический привкус во рту. Она вытерла слезы, застилавшие глаза, но Ольвидо этого не заметила. Ее больше волновал пропущенный значок ударения в слове México.
Четыре раза. Она упомянула Мексику четыре раза. Бога – три.
Дорогая Ангустиас,
У меня предчувствие, что я скоро уйду. Иногда Бог подает нам знаки, и это один из них. Я многое хочу тебе сказать, но в этом письме напишу только две вещи. Остальное скажу, когда мы снова встретимся в доме Божием.
Первое, что я хочу сказать, – я прощаю тебя. Я понимаю, почему ты ушла, и надеюсь, что ты не чувствуешь себя слишком виноватой за все, что произошло. Я не держу на тебя зла. Надеюсь, ты поняла это, ведь я так часто звонила тебе на протяжении этих лет. Как бы далеко мы ни находились друг от друга, как бы мало ни разговаривали и как бы сильно ни ссорились, я всегда буду любить тебя. Бог отправил меня на эту землю, чтобы я стала твоей матерью, и я останусь ею, даже когда буду наблюдать за тобой с Небес.
Второе, о чем я скажу, – у меня есть к тебе просьба. Я прошу похоронить меня в Мексике. Ты помнишь песню «México lindo y querido»? Сделай так, как в ней поется. Отвези мое тело туда. Хорошо бы в Матаморос, но подойдет и любое другое место, главное – в Мексике. Я так давно не была дома, и если могу попасть туда только после смерти, путь это случится. Знаю, что тебе будет сложнее приносить цветы на мою могилу, зато у тебя будет повод приезжать в Мексику. Мне всегда было обидно, что ты могла видеться только со своими тетями и дядями, а не со мной. Кстати, номера наших родственников есть в моей телефонной книге в нижнем ящике тумбочки. Позвони всем и сообщи о моей кончине. Если они не смогут приехать на похороны, я нисколько не обижусь. Просто, пожалуйста, исполни мою просьбу. Это вопрос смерти и… смерти. Вот видишь. Ты всегда говорила, что я не умею шутить.
С огромной любовью,
мама«Мексика» – четыре раза, «Бог» – три, Фелиситас – ноль.
– Мы должны отвезти бабушкино тело в Мексику, – говорит Фелиситас.
Ангустиас поворачивается к ней в недоумении:
– Зачем?
– Затем, что она этого хотела.
И только так Фелиситас сможет от нее избавиться.
– И что? Она умерла. Неважно, где будет ее тело.
– Как ты можешь такое говорить? – изумляется Ольвидо. – Как она может так говорить? Фелиситас, ну-ка спроси ее.
– Все уже распланировано, – тотчас говорит Ангустиас. – Похороны состоятся в воскресенье. Самара поможет оповестить ее друзей, она же знает всех друзей твоей бабушки. Я завтра позвоню ее родственникам. Похороны пройдут, и мы уедем, это не обсуждается.
– Нет, – протестует Фелиситас. – Мы должны отвезти ее тело в Мексику. И это не обсуждается.
Ангустиас прижимает кончики пальцев к вискам:
– Почему?
– Потому… потому что я хочу отнестись к ней с почтением, – лукавит Фелиситас. – Почитай отца своего и мать свою. Разве не так сказано в Библии? Не почитать своих родителей – это son cosas del diablo.
Собственно, она тоже una cosa del diablo. Не будь она так озабочена тем, чтобы скрыть свои эмоции и остаться вежливой, она бы призналась, что с каждым предложением, которое диктовала ей Ольвидо, что-то вскипало в ее сердце. Что-то жгучее, липкое и ужасное. Это были гнев, разочарование и стыд. «Скажи именно то, что ты хотела бы сказать, – велела она своей бабушке. – Слово в слово. Это твой последний шанс».
Ольвидо останется навсегда. А Фелиситас – ничто. Для ее бабушки она не существует.
– Когда ты успела прочитать Библию? – удивляется Ангустиас.
– Мы должны отвезти ее тело в Мексику, – с отчаянием повторяет Фелиситас.
– Я понятия не имею, как перевезти тело в другую страну, – говорит Ангустиас, качая головой, словно может вытряхнуть ответ, как монетку из копилки. – Какие документы нужно заполнить? С кем поговорить, чтобы получить место на кладбище?
– ¡Ay, excusas![36] – восклицает Ольвидо, потирая виски кончиками пальцев.
– Можем погуглить, – предлагает Фелиситас.
– У нас закончился трафик, пока мы сюда добирались. А твоя бабушка не пользуется… не пользовалась интернетом.
– Мы пойдем к тете Самаре. У нее точно есть Wi-Fi.
Ангустиас так долго сидит с закрытыми глазами, что Фелиситас принимает это за знак, что тема закрыта, но в конце концов мама поднимается.
– Хорошо, – говорит она со вздохом. – Но не очень-то надейся на…
Ее прерывает звонок в дверь. Даже мироздание в курсе, что нет необходимости предупреждать Фелиситас о том, чтобы она не обнадеживалась. Это такое же редкое явление, как способность видеть призраков.
– Может быть, это тетя Самара. – Фелиситас выбегает, стремясь поскорее покинуть душную, переполненную комнату.
– Здравствуй! – приветствует ее высокая крупная женщина. – Я Талия. – Кудри гостьи вздрагивают при каждом слоге, словно в ее теле столько энергии, что оно должно находиться в постоянном движении, чтобы высвобождать ее. – А ты Фелиситас, верно? (Фелиситас кивает.) Замечательно!
Фелиситас пожимает плечами:
– Нормально.
– А ты, вероятно, Ангустиас?
– Да.
Фелиситас слышит голос матери, но не оборачивается. Она слишком занята осмотром джинсового комбинезона Талии. Он весь в брызгах краски, от лямок до штанин. Некоторые пятна обведены маркером, создавая причудливую смесь форм. Цветы. Сердечки. Кошечки и собачки.
– Меня зовут Талия, – повторяет женщина, роясь в огромной холщовой сумке. – Я подруга Ольвидо… была. Я очень сочувствую вашей утрате. – Она виновато улыбается и достает две маленькие миски из фольги. – Я принесла вам курицу с пармезаном и запеканку из фасоли. Ольвидо говорила, что американцы обожают все запекать и что она не разделяет их пристрастий, но, между нами, это было до того, как она попробовала мою фасоль.
– Это правда, – подтверждает Ольвидо, появляясь за спиной подруги. – Будьте вежливыми. Впустите ее.
– Может быть, зайдете? – предлагает Ангустиас, прежде чем Фелиситас успевает что-либо сказать. – Кажется, у нас есть кое-что для вас. – Ангустиас спешит на кухню и роется в холодильнике. – Вот. «Талия», правильно?
– Да, это я. Ох! – восклицает Талия, когда Ангустиас передает ей пластиковый контейнер, подписанный ее именем. – Поверить невозможно… Я… – Ее всхлипы перерастают в рыдания. – Я…
– Нет, не могу, – вздыхает Ольвидо, выбегая в коридор. – Не могу видеть, как она плачет.
Фелиситас вовсе не желает, чтобы кто-то горевал, – за редким исключением, конечно. Талия, по ее мнению, не заслуживает того, чтобы быть исключением. Она кажется доброй и щедрой, но если ее рыдания отпугнут Ольвидо, так ли ужасно, если она продолжит лить слезы? Совсем недолго, всего несколько минут, максимум час.
– Не хотите остаться на обед? – спрашивает Фелиситас.
За время, пока Талия успокаивается, Фелиситас накрывает на стол и разогревает принесенную запеканку. Ангустиас не отходит от Талии, гладит ее по спине и шепчет: «М-м-м… я понимаю… вам просто надо выплакаться».
Фелиситас не хочет им мешать, но время уже приближается скорее к ужину, чем к обеду. Ее желудок сообщает об этом на всю комнату.
– О боже! – улыбается Талия. – Ты, наверное, голодная. Сама-то я всегда голодная.
– Мисс Талия, – обращается к гостье Фелиситас в середине трапезы, – а бабушка часто для вас готовила?
Ей действительно любопытно. Ольвидо отказалась объяснять содержимое своего холодильника.
– Ну… – Талия вытирает салфеткой уголки рта, – я не сказала бы, что часто, но да, она готовила для меня некоторые блюда, когда мне было нужно. Больше всего я любила gorditas[37]. Прямо со сковороды, очень вкусно. И еще fideo[38]. Вы, наверное, думаете, это же так просто, разве нельзя приготовить самой? Но как она ее готовила, боже мой! Что-то неземное, правда. Или стоит сказать «ниспосланное с Небес»? – Талия подмигивает Ангустиас. Фелиситас легонько толкает маму локтем, чтобы ей объяснили смысл, но Ангустиас только смущенно пожимает плечами.
– А для других она тоже готовила? – спрашивает Фелиситас.
Талия охотно кивает:
– Да. Она рассказывала вам об этом? Что она для нас придумала?
– Нет, – спокойно отвечает Фелиситас.
– Нет?
– Нет, – повторяет Ангустиас.
– Ну да… – Талия прижимает левую ладонь к груди. – Иногда она готовила для некоторых наших жителей. Она могла с ходу вспомнить любимое блюдо каждого, но знаете, что забавно? Я не могу вспомнить, что любила она.
– Барбакоа[39], – говорит Ангустиас, разрезая курицу на своей тарелке. – Она любила заказывать его на воскресный завтрак. Сама никогда не готовила. Всегда говорила, что слишком сложно. Значит, мама продавала еду? То есть она придумала такой бизнес?
Талия изумленно смотрит на Ангустиас:
– Продавала? Да что ты! Ольвидо никогда не взяла бы денег. Эта женщина была просто святая.
Ангустиас поворачивает голову к Фелиситас и закатывает глаза. Фелиситас укоризненно смотрит на мать.
– А что значит «ниспосланное с Небес»? – все-таки спрашивает она.
– Ну, вы понимаете… – Талия озадаченно хмурится, видя пустой взгляд Ангустиас. – Разве нет? – Тут она начинает икать.
– Это… это было очень вкусно? – догадывается Ангустиас и протягивает ей стакан воды.
– Да, именно так, – соглашается Талия. – Очень вкусно.
– А «ниспослано с Небес» в том смысле, что бесплатно, верно?
Талия кивает. Грустная улыбка приходит на смену озадаченному виду.
– Но на самом деле не только. Она приглашала нас к себе домой и просто… – голос Талии дрожит, – давала нам возможность пооткровенничать, проявляла терпение и сочувствие. Она никогда не осуждала. Она просто отдавала. И казалась такой благодарной за то, что мы навещали ее. Мы знали, что ей было одиноко.
Фелиситас протыкает вилкой фасолины. Сквозь ранки сочатся сливки. Ольвидо никогда не осуждала. Удар. Ольвидо проявляла терпение. Удар. Она была одинока. Удар. Еще удар. Как может Ангустиас с такой уверенностью убеждать Фелиситас, что Ольвидо не испытывала к ней ненависти? Если бы Ольвидо никого не осуждала, она бы не осудила Фелиситас за то, что та родилась в неподходящее время. Если бы она была терпелива, то не выгнала бы Фелиситас, не дав ей возможности повзрослеть и проявить себя. Если бы ей было одиноко, она бы позвонила Фелиситас. Она бы дождалась, пока та подойдет к телефону, и пригласила к себе.
Кусочек курицы летит через всю кухню, когда Фелиситас пытается смахнуть материнскую руку со своего лба. Ангустиас машет перед собой: перестань хмуриться. Фелиситас передразнивает ее жест.
– Не могли бы вы помочь нам кое с чем? – спрашивает Ангустиас, вставая и направляясь к холодильнику. – Вы знаете этих людей?
– Да, – отвечает Талия, когда Ангустиас читает имена, написанные на контейнерах. – У нас в городе два Херонимо, но, думаю, я знаю, кого она имела в виду. Я скажу им, что Ольвидо кое-что для них оставила, чтобы они могли заглянуть сюда попозже. Не хочется, чтобы вся эта еда испортилась.
– Спасибо, – благодарит Ангустиас. – И еще одна просьба. Сообщите, пожалуйста, всем, что похороны мамы откладываются на какое-то время. Нам нужно кое-что уладить.
Пока Фелиситас моет посуду, она размышляет о том, что привлекло Талию в Ольвидо. Она полагает, что противоположности уравновешивают друг друга. Небо прекраснее всего между восходом и закатом. В лучших десертах сочетаются разные вкусы – сладкий, соленый, кислый. А с наступлением ночи Фелиситас обнаруживает, что вечно злая и недовольная Ольвидо может быть другой. Когда Ангустиас засыпает, Фелиситас ищет свою бабушку по всему дому. Она не беспокоится, нет. Ей просто интересно, где прячутся призраки. Она находит ее сидящей на краю ванны, тихо плачущей и горько качающей головой. Фелиситас удивляется, что духи могут проливать слезы. А у Ольвидо, оказывается, тоже есть сердце.
Глава 12
ОльвидоОльвидо ужасно стыдно плакать перед детьми, а уж перед Фелиситас особенно. Дети способны воспринимать разницу между собой и взрослыми. Взрослые старше, они должны быть мудрее и брать на себя ответственность. Когда дети чувствуют, что взрослый совсем не такой, они ощущают себя в позиции «старшего», и это их тяготит. Ольвидо хорошо знает, как это бывает.
Виктория Оливарес забеременела в девятнадцать. В то время большинство женщин чуть старше двадцати уже имели второго или третьего ребенка. Они умели заботиться о своих детях и мужьях, о своих домах, садах и огородах, о своем небольшом бизнесе и о себе. И самое главное, они умели быть хорошими соседями. У тебя нет молока? Не переживай, я накормлю твоего ребенка завтраком, обедом и ужином. Ты вернешься с работы поздно? Я присмотрю за твоим малышом. Я уже присматриваю за шестью. Ну сколько хлопот доставит еще один? Твоя дочка выросла из своей одежды? Вот, возьми. После дочери у меня рождались только сыновья. Я хотела сэкономить и перешить ее платья, но наш папа был не очень доволен таким решением.
Ольвидо росла, наблюдая, как соседки заботятся о своих детях и о ней самой. У каждой были собственные методы, чтобы добиться ее послушания. Кто-то оставлял ее голодной, если она жаловалась, что фасоль пересолена. Кто-то бил ремнем, если она не унималась и продолжала тащить в рот жуков. Их соседка донья Жинебра снисходительно дала ей понять, что грешно играть с фигурками святых, как с куклами, а другая соседка шлепнула ее Библией по затылку за то, что она начала есть, не помолившись.
Эти наблюдения пригодились Ольвидо, когда ей пришлось заботиться о своей матери. Никакого рукоприкладства она, конечно, себе не позволяла, но подражала строгому тону и угрожающим позам своих соседок. Она вставала в дверях, расставив ноги, уперев руки в бока, и, глядя матери в глаза, требовала: «Отнеси обратно этот лотерейный билет. Ты должна была купить кукурузу», или «Скажи дону Фабиану, что твоя игра в шахматы была ошибкой. Ты дашь ему десять помидоров с нашего огорода, если он вернет хотя бы половину того, что ты ему проиграла», или «Верни это кольцо дону Панчо. Он не собирается спасать тебя от долгов, и мне не нравится, как он пялится на мои ноги».
Ольвидо стала матерью еще до того, как зачала собственного ребенка. Задолго до знакомства с отцом Ангустиас она поклялась, что сделает все возможное, чтобы ее ребенок никогда не почувствовал того, что чувствовала она, видя, как ее никудышная мать поздно ночью вваливается в дом с пустыми бутылками и еще более пустыми карманами. Однако в стремлении к идеалу несовершенство неизбежно. Иногда Ольвидо нуждалась в помощи Ангустиас – обычно когда дело касалось англоязычных документов и новомодной техники, – однако старалась, чтобы такая зависимость не вошла в привычку. Ангустиас было о чем беспокоиться – хорошо учиться в школе и не сбиться с божьего пути, – но взрослые дела точно обошли ее стороной. Она не грызла ногти из-за переживаний, как они будут оплачивать счета за дом. Не страдала бессонницей из-за того, что слишком много думала о материнском здоровье. У нее не развилась язва из-за страха, что однажды она вернется домой, а матери там не окажется.
– Кто ее увел? – спросила однажды вечером Ольвидо донью Жинебру.
– Ростовщики. Они пришли, когда ты была на работе. Но кто именно, я тебе не скажу. Ради твоего же блага.
Кто ее увел? – должна была бы спросить Ангустиас, если бы Ольвидо не заботилась о ней.
– La Migra[40], – сказали ей потом. – Не ходи в полицию. Ради своего же блага.
Фелиситас, похоже, беспокоится об Ангустиас не так сильно, как Ольвидо приходилось беспокоиться о Виктории, и все же Ольвидо разочарованно качает головой. Имя Ангустиас не сработало. Ольвидо подвела ее. Несмотря на все ее старания, Ангустиас выросла в настоящую Викторию. Да, речь не идет о пустых бутылках и огромных долгах, так хорошо знакомых Ольвидо, но налицо пустые карманы и дочь, которую тошнит от постоянных переживаний.
Что изменилось бы, если бы Ангустиас послушала ее тогда, до того, как сбежала? Какой стала бы ее жизнь? Ольвидо задавала себе этот вопрос миллион раз, и лишь услышав, как Фелиситас шепчет «¿Abuela?», она задается совсем другим вопросом. Изменится ли жизнь ее внучки? Станет ли лучше? Счастливее?
– ¡Abuela! – Ольвидо вздрагивает, когда мельчайшие капельки духов проносятся сквозь ее щеки. – Все нормально? – спрашивает Фелиситас, в ее округлившихся глазах отражается беспокойство. Ольвидо кивает, и Фелиситас опускает флакон, который выставила перед собой словно крест – главное оружие против дьявола. – Хорошо, тогда поторопись. А то я уже устала.
Ольвидо хмурится:
– Поторопиться с чем?
– Тренируйся. Я не собираюсь все время писать за тебя письма и поднимать вещи.
– Письмо было твоей идеей, – замечает Ольвидо.
– Да уж. Самой глупой идеей в моей жизни.
– Согласна.
Фелиситас ехидно улыбается:
– Чем быстрее ты научишься быть независимой, тем меньше мне придется с тобой общаться.
Ольвидо смеется:
– Ты собираешься учить меня независимости? Я была независимой с самого рождения. Мне пришлось практически перерезать собственную пуповину. (Фелиситас с отвращением высовывает язык.) Más sabe el diablo por viejo que por diablo[41], – говорит Ольвидо, растягивая слово «viejo»[42]. – Знаешь, что это значит?
– Дьявол знает больше… – неуверенно переводит Фелиситас.
– Да. Продолжай.
– От старости, а не оттого, что он дьявол.
Ольвидо кивает:
– Именно так. Это значит, что опыт в состоянии дать гораздо больше мудрости, чем врожденные умственные способности. У тебя могут быть хорошие мозги, но у меня шестьдесят два года нажитых знаний.
Фелиситас скрещивает руки на груди:
– А это не ошибка? Должно ведь начинаться с el diablo sabe más? Сначала идет существительное.
– Необязательно. Не знаю, как насчет английского, но в испанском можно менять порядок слов, не меняя значения фразы, зато интонацией можно передавать разные чувства, – Ольвидо вытягивает руки вперед и разводит их в стороны, словно поэт или оперная певица.
– Вообще-то все не совсем так, правда? – усмехается Фелиситас. – Я не старая, а прямо сейчас могу научить тебя кое-чему. – Кончиком указательного пальца она надавливает на носик пульверизатора одного из многочисленных флаконов, стоящих на полке. Ароматные капельки летят в сторону Ольвидо и исчезают, не успев приземлиться на ее рубашку. – Разве нет? – Фелиситас пшикает снова и снова. – Разве нет?
– Да! – выкрикивает Ольвидо. – Теперь прекрати! Ты тратишь очень дорогие духи. – Она тянется к флакону, забыв, что ее пальцы лишь просочатся сквозь него. Флакон сдвигается на полмиллиметра, чего не заметит обычный глаз, неспособный видеть призраков.
– Чем-то дорогим не пахнет, – не унимается Фелиситас. – Запах какой-то старушечий.
– Что за ерунда. Прекрати.
Фелиситас морщит нос:
– Да, так и есть. Фу. Надеюсь, я никогда не буду так пахнуть. Надеюсь, я умру молодой.
– Прекрати! – кричит Ольвидо.
Ее неумелые пальцы пытаются обхватить флакон, но не удерживают его, и он летит на пол. Фелиситас удается его поймать, прежде чем он разлетится вдребезги.
– Бог все слышит, – с укором говорит Ольвидо, не обращая внимания на замечание Фелиситас о ее неосторожности. – Con la muerte no se juega[43].
– Если я не должна играть со смертью, значит, надо говорить «смерть все слышит», разве нет?
– Что? Нет. Нет никакой смерти. Есть только Бог.
– Значит, Бог убивает?
– Да!
– Значит, тебя убил Бог?
Ольвидо притворно кашляет, чтобы скрыть смятение.
– Нет! – наконец отвечает она. – Бог не убивает людей.
– Но ты же сказала…
– Ты прямо как твоя мать! – восклицает Ольвидо, прижимая кончики пальцев к вискам.
– Какую ее часть ты имеешь в виду? – с вызовом спрашивает Фелиситас. – Ту, которая тебе не нравится, или ту, которую ты ненавидишь?
Ольвидо хмурится в замешательстве:
– Я не ненавижу твою маму.
– Значит, она тебе просто не нравится?
Ольвидо вздыхает. Ну конечно, Фелиситас все неверно понимает и любит поспорить. Она же дочь Ангустиас.