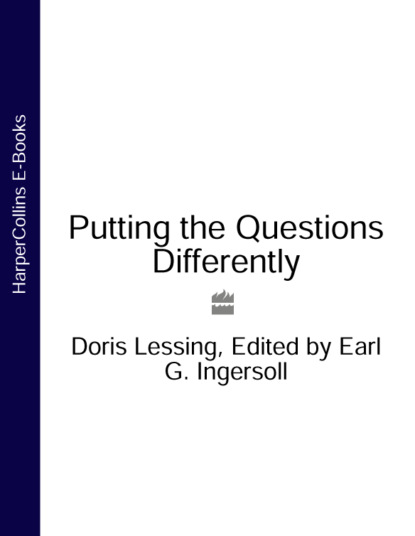Noli me tangere

- -
- 100%
- +
Ей нравилось представлять себя женщиной свободной от предрассудков; боюсь, я так же могла не видеть всех своих ограничений.
– Тогда не отказывайся от тех вариантов, что я тебе предлагаю, тем более таких…
– Каких?
– Других. Сколько можно страдать из-за одной мерзавца?
В замешательстве, я не нашлась, что ответить.
– Видишь, ты даже не отрицаешь. Нет, он, конечно, по-своему красив, но это не давало ему права соблазнять студентку.
Необходимость всегда держать в голове придуманную легенду – проблема для меня не столь великая, как рассказать историю подлинную – никто из живых в нее не поверит.
– Кажется, на третьем курсе, ты…
– Да, да, да, но с одним отличием: я удовлетворила свое любопытство, и мы мирно разошлись. И я не рисую портрет своего преследователя на каждой салфетке. Кстати, ты ему слишком льстишь.
Как объяснить, что мужчина, которого она видела в студии, был лишь слабой тенью оригинала, стереть из памяти который я так старательно пыталась и оттого изображала на любой поверхности, лишь только подступал страх действительно забыть его черты?
– А нас, кстати, ты ни разу не рисовала. Я вообще думаю, что он воспользовался ситуацией и твоей уязвимостью, а то, что тебя можно принять за его дочь – это вообще перверсия…
– Постой, наша связь его не красит, но не будем делать из него извращенца, тем более первые шаги сделала я. Он же говорил, что сам, скорее всего, никогда бы не решился. Я, правда, совсем по нему не скучаю, просто привычка. И обещаю написать ваши портреты. И снять трубку, если Элай позвонит, – пора заканчивать псевдо-сеанс психоанализа, – как твои дела?
Мы познакомились, а затем сошлись год назад, когда они с сестрой пришли на мастер-класс по рисованию в студию, в которую я устроилась преподавать. Своими четкими целями и подходом к жизни как к эксперименту эти сильные девушки действовали на меня одновременно отрезвляюще и успокаивающе. Не думаю, что они верили в конечность своего существования.
– Ты, конечно, перевела тему, а я выговорилась, за что спасибо, но все равно – прекращай. И в целом, вернись к творчеству, хватит скрывать талант, прекрати жить прошлым. Чем он так тебя зацепил?
– Он часто говорил, что я красивая, – почему-то вспомнилось мне.
Все, кто раньше говорили подобное, теперь лишь молчаливо смотрели на меня с холста.
– Другие этого не говорят, потому что это очевидно, а еще – они боятся! Ты же никого к себе не подпускаешь!
В то раннее утро все было чрезмерно: бессмысленный разговор, неумеренно яркое солнце, мужчина вдвое старше меня, преувеличенно веселый и слишком напряженный. Позднее он уверял, что то смущение было неподдельным, что он едва сдерживался и не знал, что со мною делать.
– Я не встречаюсь со студентками, – внезапно произнес он. Четвертый кофе, мы были одни в душном зале. Совсем скоро ему станет недостаточно обладать мной физически, и я напомню ему эти слова.
– Простите, я не умею играть в… Можете просто… поцеловать меня?
Кажется, первая близость принесла мне меньше боли и разочарования, чем та глупая, безумная надежда, что, как только его губы коснутся моих, то мир перевернется, все образы в моей голове наконец-то оживут, случится волшебство, и я открою глаза там, где должна была быть. Наблюдая за сверстниками, я узнала, что многие в этом возрасте заблуждались не менее моего, а привычное окружение служило им в этом опорой.
«Я встретила человека с глазами самого темного янтаря, волшебными, словно хвосты павлинов на стенах моей комнаты. Разве при такой красоте имеет значение размер их голов?»
Пока разум боролся с привычным наваждением, мое тело училось получать от него удовольствие.
– Ты со мной, моя Уна? – сбивчиво допытывался он, едва приведя дыхание в порядок.
В такие моменты, когда его руки обхватывали мое лицо, и он позволял себе быть уязвимым, я видела лишь Его горящие в темноте глаза и позволяла себе лгать. Ведь это было мое ненастоящее имя.
Травма
– так он определял мое безразличие к нему как к человеку, и думал, что оно было связано с прошлым.
– Уна, прости, но… с тобой в детстве ничего не происходило в плане…?
– Нет. Нет, конечно, – все отрицая, я давала себе зарок больше никому и никогда не доверять свою историю. Единственное сделанное исключение, откликнувшееся сегодня болезненным уроком, подтвердило правильность этого решения. Достаточно было просто слушать и делать вид, что сказанное собеседником тебе понято, не требовалось даже соглашаться, а главное – нельзя высказывать мнения противоположного – и можно с легкостью избежать лишних вопросов, осуждения или интереса к твоим делам. Дистанция и благожелательность – я адаптировалась в этом мире.
– Ты почти ничего не рассказывала о том периоде. И что было до того, как тебя нашли. Я не настаиваю, понимаю, это болезненно, но… все же, может быть, сходим к психологу? У меня есть знакомый, владеющий гипнозом.
– Думаешь, я прошла мало врачей? Нет, оставь это. А все, что было до… оно размыто. Прошлое меня не беспокоит. Но, пожалуйста, не обсуждай его ни с кем, мне не нужны полные сочувствия и сожаления взгляды от малознакомых людей.
Умение скрывать себя, недоговаривать пришло ко мне быстро. Картины дома и побега не стерлись из памяти, но вместе с сомнениями они не стоили и гроша без знания, откуда я появилась в этом мире более шести тысяч дней назад.
– Милая, беги вперед и не сворачивай в лес! Передохни, только когда камень останется позади, когда дорога за ним будет осязаема! А дальше, только вперед, не смотри на свет с маяка… Не останавливайся до камня, чтобы ты не увидела и не услышала! Я люблю тебя, помни!
Я хорошо запомнила твои слова, мама, но с первых же шагов после расщелины меня ослепили глаза монстра, несущегося из кромешной тьмы, и я нырнула в лес. Указанием было бежать вперед, и я бежала. Бежала, пока были силы, пока сквозь темноту не проявились отблески нового дня, а вслед за ними и цвета: изумрудное сияние отовсюду, с каждого огромного листа, с травы, с кустов, цеплявших мою промокшую одежду. Малахитовая преисподняя! Пусть на моем пути и не встретилось ни единого зверя, пусть ни одна птица не была потревожена моими шагами, весь лес – он был живым, он наблюдал, сопротивлялся моему движению, пытаясь затолкнуть обратно в бесплодную пропасть карьера.
В этом мире я почти разучилась верить в магию и чудеса, но, если бы научные исследования доказали, что у зеленого цвета есть душа и он умеет дышать, я бы усомнилась в своем неверии. На моих картинах его не было и никогда не будет.
Три дня почти без сна, сбившись с дороги и так и не найдя камень, я потеряла скудные запасы еды и утопила одну туфлю в болоте. Позже, возвращаясь мыслями к тем дням, я так и не смогла найти оправдания тому, как меня собрали в путь, тому, что меня ничему не научили. Карты, компас, провизия, фонарь, деньги – разве они не знали? Неужели никто и никогда не покидал Убежище? Хотя деньгами меня снабдили: подаренный дамой с балкона мешочек золотых потерялся еще в лесу или у взрослых, когда различные службы меня передавали из рук в руки.
– И ничего не бойся, мы с тобой. Пиши мне письма и приноси их во снах, моя Уна… Я буду отвечать.
Но ты не выполнил своего обещания.
Ночами было не так страшно, как днем: в оттенках черного, спрятавшись в огромных, куда-то ползущих корнях деревьев, я представляла, что кутаюсь в темноту, как в твою накидку, дыша запахом твоих последних объятий, еще хранившемся на моей одежде. Смешно, но тогда я действительно засыпала с мыслями, что вы где-то рядом, следите, чтобы не случилось беды. Ведь как только смыкались мои глаза, вы возникали передо мной и подгоняли «только вперед, нельзя останавливаться!»
На третий день я уже не могла бежать. Коряга, уцепившись за платье, казалось, хотела затащить меня вглубь, под заросшую мхом кочку, ненадежная почва внезапно становилась топью, быстро набирающей воду в том месте, где только что была моя легкая нога. И я принесла одной из них в жертву мою правую туфлю, повторяя движения ритуала и напевая дрожащим голосом строки молитв, что подсмотрела-подслушала в одном из помещений Храма.
Лишь спустя четыре тысячи дней я перестала винить себя за то, что не смогла выполнить столь легкое задание – убежать за чертов камень, за то, что сбилась с пути и не спала трое суток, за то, что только под конец третьего дня набрела на лесную дорогу, которая и вывела меня на залитую светом звезд и слепящих фар трассу. За то, что потеряла сознание, и никакой гипноз не помог мне вспомнить, кто и где меня нашел. Все, что удалось узнать позже: незнакомые люди привезли и оставили меня в клинике в ближайшем на их пути населенном пункте, а там – непонимание, утрата бумаг и вот – я вдали от места, где потерялась и нашлась, без шансов узнать, где это случилось.
Там, куда меня определили, я имела преимущество: я знала, что останусь здесь до шестнадцати лет, а после никогда и никого из этих людей больше не увижу. Тогда я еще не понимала, что выйти за пределы ограниченного мира детского дома означает нырнуть из беспомощности в безразличие; что с приходом свободы одиночество, приобретенное за две тысячи шестьсот дней, никуда не уйдет.
Сначала оно было вынужденным. До трех тысяч… вернее, девяти лет мое детство было наполнено близкими людьми, их любовью и историями, рассказанными и написанными на разных языках. После же остались лишь воспоминания об этих историях, которые никому нельзя было поведать. Я пыталась, но ни взрослые, ни дети мне не верили:
– Странные сказки…
– Глупости! Ты не могла быть знакома с этими людьми.
– Бедняжка, может, травма? Все смешалось в голове – книжные вымыслы, забытые факты.
И, чтобы не перестать верить самой, я заменила слова на краски и почти перестала говорить. Это было вовсе не сложно, ведь тогда мне казался скучным и странным тот факт, что столь много непохожих людей изъясняются лишь на одном языке. Не самое большое разочарование. Значительно позже, уже в академии куда более трудным испытанием для меня стало принятие факта, что у всех, кого я знала, был один и тот же план на жизнь и не более трех альтернативных стремлений. И, если в последнем я была разочарована, то первое вызывало во мне зависть, ведь собственного плана на жизнь, кроме поисков, я не имела, а сторонний был мне не по размеру. Возможно, поэтому запретные отношения ученица-учитель закончились сразу, как только я перестала примерять на себя чужеродную форму существования.
Грохот, раздавшийся с неба, заставил меня вздрогнуть. Когда успело стемнеть? Чугунные тучи, слишком тяжелые, чтобы продолжать опираться на воздух, грозились излиться или свалиться на головы малочисленных неразумных прохожих. Чертово кафе, слишком много воспоминаний о человеке, лишь внешне напоминающем того, чей образ вырезан во мне так же, как его история в камне маяка. И о тех, кто оставил меня в этом мире, где существование конечно, где будущее планируется, а реальность настолько осязаема, что не требует интерпретаций, и ты можешь надеяться только на себя.
Раскаты грома разрастались, но дождь застал меня только у дома – можно не спешить в пустую квартиру, где ждали лишь холст и краски. Теплая вода утяжелила волосы, но никак не помогла унять головную боль. Четыреста дней без снов, без писем и без друга. Мои попытки разозлиться и отпустить прошлое снова провалились.
Раскаленный металл
стекал с окна на пол, бесшумно пересекал комнату и вопреки гравитации подымался вверх, прямо к моим глазам. Нужно было занавесить окна на ночь, но прошлый день вымотал меня настолько, что едва захлопнув за собою дверь, я, как попало, сбросила с себя мокрую одежду и упала в постель. Еще не проснувшись, я протянула руку к телефону – восемь утра и уже одно сообщение.
«Привет! Солнечный свет сегодя, Уна, почти такой же, как на твоих картинах!»
«Бесцеремонный?»
И зачем я поставила знак вопроса? Кофе, душ и собраться с мыслями. Но телефон снова подает сигнал.
«Настроение – вчерашняя гроза?»
«Поверь, Элай, оно не бывает лучше даже после дождя, даже после душа, куда я как раз собираюсь».
Он ответил почти сразу: «Дай знать, как выпьешь кофе».
Похоже, Элай рос очень любимым в своей семье. Моему первому любовнику родители ставили слишком завышенные цели, и результатом стал образ достаточно убедительный для ежедневного выхода в люди, но неестественный вблизи. И чем дольше мы были знакомы, тем ярче виделся этот контраст. Цельные и оттого уверенные в себе люди – таких я встречала редко.
«В чем твой подвох?» – ответила я и поплелась в ванную.
После душа лучше не стало, и две подряд кружки кофе лишь помогли осознать, что на работе я сегодня не появлюсь. Написав в студию полуправду о вчерашнем ливне и сегодняшней температуре, я получила ценные советы по лечению и вернулась в постель. Был ли в моем поступке смысл? Не лучше ли было отвлечься в знакомой рутине? Почему, свернувшись под одеялом, меня не успокоило бормотание мантр? Никогда не работало – к чему самообман? Если бы я знала, как направить поток мыслей в нужное русло, то не лежала бы сейчас здесь, в своей небольшой квартире, разглядывая свежеокрашенную стену. Не менее пяти раз на ней появлялся Его образ, и не менее пяти раз я закрашивала любимое лицо черной, синей, желтой и даже золотой краской. Теперь настала очередь багряной.
Мне нравилось одиночество моей квартиры, но временами невыносимо становилось даже здесь. Голые стены, никаких напоминаний, но я снова и снова возвращалась мыслями в прошлое. Хуже были только провалы, так я окрестила мою неподдающуюся лечению болезнь. Она явилась ко мне год назад и стала едва ли не самым близким другом. В такие моменты, не важно, слушала ли я только что, кажется, даже с интересом, чью-то болтовню, смотрела ли фильм или резала салат, один хлопок ресниц – и собеседника, актеров, кухню будто смывало мощной волной, которая, отступая, оставляла плотный сладкий воздух и провал в памяти за это время. Мой рекорд – неделя ремиссии без рецидивов, но вчерашнее обострение раскрыло в моей болезни нечто новое. Нужно на воздух.
Не задумываясь над выбором одежды, наспех побросав необходимое в карманы легкой куртки, я схватила папку и выбежала из дома.
Город спешил, его темп разгонял во мне кровь, усмиряя беспокойство внутри. Погода – явление женского пола: безветрие молчало о вчерашней истерике, лучезарное солнце и отмерянные на этот год остатки тепла сменили ночные рыдания. За двадцать минут скорого шага у меня оформился план на день, и, купив в ближайшем магазине сигарет, я прыгнула в трамвай.
Как обычно в это время, кладбище было пустым. Одно из самых живописных в городе, но здесь не было знаменитостей, а потому и толп туристов, как впрочем, редко встречались и скорбящие родные местных обитателей. Я сразу сошла с центральной аллеи и направилась в низину, где находились самые ветхие могилы. Устроившись между двух расположенных друг напротив друга заброшенных надгробий, я достала сигареты. Надписи на плитах истерлись, а за давностью лет имена людей лежавших под ними стали загадкой для всех, в том числе и для местной администрации; и я присвоила их себе. Безымянность не была изъяном, я выровняла один из покосившихся памятников, посадила куст жимолости, а затем стала приходить сюда несколько раз в год, чтобы ухаживать за цветами и разговаривать.
– Иса, Неизвестный, – поприветствовала я камни.
Защищенная с двух других сторон склоном и ограждением, я никому не должна была помешать. Телефон запищал, как только я достала сигарету.
«Чем занимаешься?» а раньше – ответ на мой вопрос: «Расскажу на свидании».
«Учусь курить».
«Зачем, это глупо?»
Танцовщицы и рыжебородый великан из моего прошлого смолили одну за одной – тонкие дурманящие самокрутки у первых и более похожие на те, что лежали в моей пачке, у второго. Мундштуки и трубки разнообразных форм и размеров – в детстве курение казалось мне непременным атрибутом взрослых, одним из их таинственных ритуалов. И вот, я уже смотрела на себя со стороны: также непринужденно, будто одна из танцовщиц, я подносила сигарету к губам, поджигала ее, глубоко втягивала дым…
– Черт, какая дрянь!
…а затем, стоя на коленях, выкашливала свои легкие на землю.
Небо горело от пляшущих над моей головой ветвей, усыпанных переливающимися, словно огненные опалы, листьями. Покой, нарушаемый лишь тревожным шуршанием голубиных шагов и чувством, что за тобой наблюдают – приятная иллюзия, навиваемая атмосферой старинных развалин, скульптур, ароматом влажной почвы и гнилых листьев. Нужно переломить себя и начать хотя бы с покупки краски, тюбика с этикеткой «Изумрудный». Мне нужно составить план.
И хотя моя глупая самонадеянность обернулась голодной судорогой в пустом желудке, в голове клубился приятный туман, и я взялась за карандаш. Минут через десять телефон снова дал о себе знать, на этот раз Элай решился на звонок.
– Не глупи, в твоем возрасте поздно начинать убивать себя никотином.
– Я попробовала, мне не понравилось. Но, говорят, привычка вырабатывается не с первого раза. Нужно лишь задаться целью и идти к ней.
– Видимо, тебе некому дать по губам.
– Спасибо, что напомнил.
– Часто разыгрываешь эту карту?
По неизвестной причине улыбаясь, я водила карандашом по бумаге.
– Я не помешал? Ты на работе?
– Нет, я немного простыла после вчерашнего ливня, так что взяла отгул, – легенду для правдоподобности нужно повторять, даже если собеседник и тот, кому она предназначена, никогда не встретятся.
– И гуляешь по улицам? Бегом домой!
– Слишком дерзко для второго дня знакомства.
– Ты социально осознана? Заразишь других.
– Я на кладбище, здесь уже все мертвы, – я осеклась, но было поздно, фраза уже слетела с моих губ.
К чему это упражнение в остроумии? Что он теперь обо мне подумает и почему меня это волнует? Не важно. Сколько уже длится пауза?
– Значит… компания тебе не чужда? – его голос звучал немного озадачено, но я не почувствовала издевки.
– Я волонтер.
Ответ вышел не слишком находчивым и крайне неубедительным. Вспомнив, как прошла вчерашняя встреча, я спросила:
– Так зачем ты позвонил? Определился с картиной?
– Мне показалось, что ты хочешь мне что-то сказать. И, да, определился еще вчера, но сейчас мы можем просто поболтать.
Можем, но я вспомнила, что не знаю твоих намерений. Вряд ли они непредсказуемы, и все же – чем обусловлен его ко мне интерес? Любопытством коллекционера или жалостью?
– Паузы – это даже хорошо. Если молчанием ты выражаешь согласие, я могу начать.
– У тебя на щеке был шрам, на скуле, недалеко от глаза. Кажется, справа?
С бумаги на меня смотрел набросок портрета Элая; подруга была права, он был красив, и шрам, будто помещенный на это лицо, чтобы указать на его совершенство, только усиливал эффект.
– Да. Ты запомнила? Всегда думал, что он не сильно бросается в глаза. Мне было лет девять, разыгрались с младшим братом, за нами приглядывала сестра. И, вот, мы ее, как обычно, довели, и она бросилась нас разнимать. Так все и сложилось: ее усилия, приложенные к моему сопротивлению, равно мальчишка, с ускорением отлетающий на ни в чем неповинного пса. Который, в свою очередь, сорвался с места и толкнул меня на открытую дверцу шкафа. Не скажу, что эта история нас с братом чему-то научила, только сестра перестала вмешиваться в наши драки, и до сих пор, когда встречаемся, мы получаем от нее подзатыльники за поведение двадцатилетней давности.
– Я так и подумала, – и снова прикусила язык.
– Что?
– Что у тебя большая дружная семья.
Он не скрывал, что ему понравилось услышанное:
– Приятно знать, что ты думала обо мне. Все так, мы близки, мне действительно повезло с семьей. А откуда твой шрам?
– Мой?
– На шее. Он не заметен, особенно с распущенными волосами, но, ты гладила кожу сразу под костью, когда волновалась. И я мельком увидел его, когда ты встала и повернулась попрощаться.
Историю появления этого шрама я рассказывала лишь однажды. Тот человек практически свалился на меня, потеряв равновесие в начавшем движение поезде. Мы едва обменялись несколькими дежурными фразами: извинения, изнуряющий зной, откуда вы и ваш род занятий. А затем, подобно тебе, Элай, мой случайный попутчик спросил меня об отметке на шее. И я повела себя так, как ненавидела, когда подобным образом вели себя другие – не смогла умолкнуть, не рассказав до конца историю о том, как первый месяц снаружи не понимала законов этого мира, пока не почувствовала осколок стекла, прижатый острием к моему горлу.
– Откуда у тебя эта вещь? Украла? Отдай сама или я вырву ее с корнем!
Та девочка была старше меня лет на пять и не раз пыталась унизить или обидеть, но сложно задеть человека, который не знает правил игры. Видимо поэтому в тот день в ход и пошло насилие физическое.
– Это мое, вам эта вещь ничего не скажет.
– Ты больная? – она надавила на стекло и я дернулась.
Вот и вся история происхождения неровной полосы в четыре сантиметра на моей шее. Не помню, чтобы мне было больно в тот момент, но помню свое удивление. Я видела кровь, например, от падения, знала, что другой человек может стать причиной ее появления, ведь дома, у площади я часто наблюдала фехтующих, но их порезы были результатом договоренности.
– Ты знаешь для чего нужно это украшение и насколько оно древнее? – спросила я, прикрыв рукой приколотую к моему скромному платью фибулу.
– Ты точно больная! Так сколько ей лет? – ее голос стал выше, истеричнее, оставлять следы явно не входило в ее планы. Бегающими глазами она одновременно следила за тем, чтобы я не выкинула чего-то неожиданного, и за тем, как тонкий красный ручеек на моей шее, столкнувшись с тканью, разрастался до размеров озера на моей груди.
Я же молча пыталась сложить знания о дарителях фибулы и местном летоисчислении. Деление четырехзначных чисел в уме не являлось моим талантом, точный ответ я могла дать только в днях.
– Я…
– Снимай! Что еще в твоей сумке? – она коснулся моего обнаженного предплечья, и я закрыла глаза.
Удар в солнечное сплетение и я бегу. Бегу к дереву, растущему сразу за сараем, в который они меня загнали, по веткам карабкаюсь в самую высь – вот мои навыки и наконец-то пригодились! Оглядываюсь на преследователей, но один из них срывается и…
– Если продолжишь, тебе будет больно, – открыв глаза, я говорила спокойно, это ситуация была мне привычна, – но ты не послушаешь и продолжишь, а я побегу.
И в тот момент я осознала странную вещь: хотя мой обидчик и обладал большей силой, у меня было серьезное преимущество – знание того, о чем было не ведомо ни нападающей, ни ее спутникам. Подобного никогда не случалось в Убежище и я… я решила оступиться.
– Сокровища. Но ты будешь достойна их, только если пройдешь испытание и докажешь свою силу, свое право ими обладать.
Думаю, легенд и сказок я знала гораздо больше, чем та глупая девчонка, иначе, памятуя о том, как они заканчивались, она бы просто вырвала сумку из моих рук. Но провокация, чем, как я поняла значительно позже, являлись мои слова, сработала верно. Противник вызывающе кивнул.
– Если есть на свете драгоценности того стоящие, доберись до верхушки старого тополя, – и я указала на дерево метрах в тридцати от нас.
– Да как нечего делать, – ухмылка некрасиво перекосила ее лицо. Видимо, она услышала лишь первую часть моего воззвания. Круг обступавших нас детей разомкнулся, и уже через секунду горланящая имя предводительницы орава ринулась в указанном мной направлении.
– Нужно приволочь мелкую!
– Да куда она сбежит?
А я и не пыталась сбежать. Но, когда подошла к толпе возбужденных детей, моя мучительница уже добралась до середины дерева. Снизу было видно, что карабкаться выше ей становилось все сложнее, она перестала кричать гадости и медленно, отдыхая после каждого движения, продвигалась к своей цели.
– Ты крута, не лезь дальше!
– Давай просто отнимем у нее все!
Не дождавшись ответа, трое из ребят подошли ко мне вплотную, и тот, что был старше, с силой дернул сумку из мои рук.
– Нет, все не так… вы не можете причинить мне вреда. А она – она должна упасть, я буду смотреть на нее сверху…
Мне не было страшно, я просто не понимала. Мой дар, он не мог меня подвести. В новом мире все, что у меня было – это лишь он, моя память и несколько вещиц. Задрав голову, я смотрела как та, что хотела оставить мне в утешение только память, достигла высоты из видения, а дальше – и тому надлежало произойти – она оступилась.
– Ни при падении, ни на земле она не кричала. Позже я услышала перешептывания «бедная девочка, она сломала шею об ветки». Меня же с тех пор сторонились и больше не трогали. «Ведьма! Ее вещи заговорены, а сама она проклята!» Так, наконец-то в покое, я начала изучать этот мир, и первым делом посмотрела в энциклопедии значение слова «смерть».