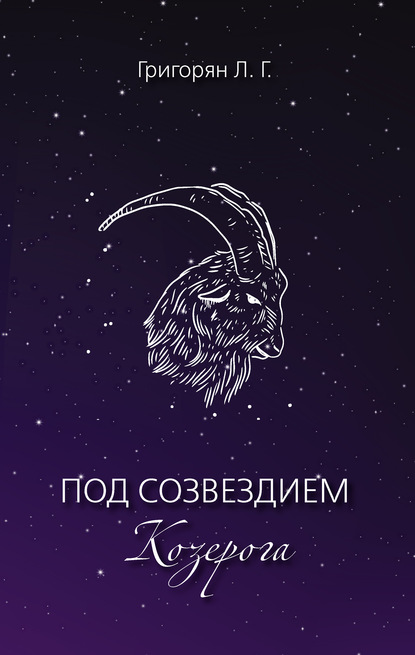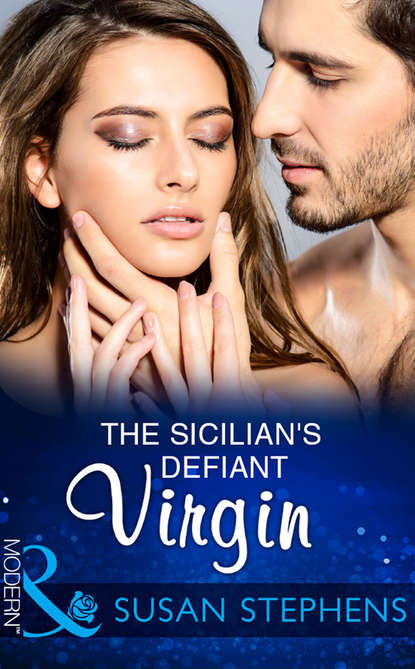Noli me tangere

- -
- 100%
- +
– Довольно поздно для ребенка, – прокомментировал мой попутчик.
– Я знала это слово, оно встречалась в легендах, в рассказах людей из моей… деревни, но случалась она с другими, вне моего окружения. Все утверждали, что это свойство ни мне, ни им не присуще.
– И что ты хочешь найти в Бенаресе? – спросил тогда он меня.
– Ответы.
– Мне показалось, ты умная, а ты говоришь туристические банальности, – вздохнув, он произнес эти слова на своем языке, а затем, улыбнувшись напоследок сжатыми губами, отвернулся.
И я не стала показывать ему портреты тех, чьи следы искала – пусть лучше думает, что его спутница глупа, нежели, что она сумасшедшая.
– Ветка.
– Ветка, – Элай тихо повторил мою наспех сочиненную версию, и, может виной тому был его открытый честный взгляд, выведенный мною же на бумаге, как следом я произнесла:
– Прости, может, когда-нибудь я расскажу тебе эту историю, я уже не уверена, но не сейчас. Не знаю, не хочу сочинять, – я вздохнула, сейчас бы не помешало умение курить, – и тогда, скорее всего ты перестанешь воспринимать меня как милого раненного олененка.
– Сипуху.
– Сипуху… – наш разговор стал напоминать пинг-понг.
– Очень милую сипуху. Я буду рад выслушать, – он снова попытался вернуть беседе осмысленность, – думаю, шрамы интереснее татуировок, к ним хочется прикоснуться. Как будто их можно разгладить.
Я отдернула пальцы от его шрама-двойника.
– И ты опять молчишь.
– Думаю, твой шрам стал приманкой для многих сердобольных девушек. Признайся, раньше он был глубже?
Лучше бы я промолчала, в динамике послышался довольный смешок, а карандаш в моих руках уже выводил ухмылку на его губах.
– Я вспомнила одного человека, давно его знала. Однажды, точно не вспомню обстоятельств, мне довелось увидеть его без рубашки, – рассказывая это, я пыталась изменить ироничное выражение у копии лица моего собеседника на более серьезное, – знаешь, есть такие детские головоломки? Лабиринты, где нужно провести ручкой из входа к выходу, но постоянно упираешься в тупики?
– Да, – негромко ответил Элай. И я зачем-то продолжила:
– У него все тело представляло собой лабиринт без входов и выходов, одни тупики, – его портрет жил среди других, только моих, спрятанных от чужих глаз холстов.
– Откуда они?
От плети, меча, когтей – кто мог знать точно?
– Уна?
– Я пыталась вспомнить, но, нет, не знаю, это было так давно. Его шрамы тебе навряд ли захотелось бы потрогать.
– Не знаю… либо ты пытаешься смутить меня либо…
– Больная?
– … в тебе очень много невысказанного. Извини, – закончил Элай.
– Разве тебе интересно общаться с такими паузами?
– Да. Слишком необычно все то, что за ними следует. И ты все еще не сбежала, – линия его губ стала мягче, – так почему ты спросила про подвох?
Для ответа на этот вопрос мне бы пришлось рассказать обо всех моих мужчинах, и, хотя рассказ получился бы коротким, я уже и так наговорила много лишнего. Эффект попутчика.
– Мотивом тому стал опыт, – и, не дожидаясь его колкости, я продолжила, – а почему ты не спросил про мой?
– Я его знаю.
– Твоя самонадеянность под стать твоему росту.
– Тебя слишком мало обнимали.
На этот раз я не стала делать паузу:
– Знаешь, помимо прочего моя проблема состоит в том, что я совершенно, абсолютно не разбираюсь в играх между полами. Вчера я оценила твою прямоту. Но тогда получается что ты либо нечестен сейчас, либо слишком торопишься. В любом случае, крепкими объятиями мои… – я безуспешно пыталась найти подходящее слово, – причуды, которые по неизвестной причине тебе, видимо, нравятся, из меня не выдавить. Все, что ты говоришь – это мило, но дело в том, что нашему знакомству второй день и оно может закончиться чем угодно, и я не знаю чем.
Воздух закончился, а мне стало смешно от мысли, как я выглядела со стороны: лежащая среди могил, беседующая с портретом.
– Разве так не всегда происходит? – тихо спросил он, – никому не дано заглянуть в будущее, а в предвкушении, в неизвестности, и есть вся прелесть новых встреч.
– Итогом которых почти всегда становится болезненное разочарование.
– Скажу банальность, но мы формируемся на опыте. Невозможно всю жизнь бегать по крышам, как ребенок с твоих картин, так ни разу с них не свалившись.
«Возможно!» – хотела я прокричать в трубку. Та девочка все свое детство провела в играх на залитых светом мостках и ни разу не упала! Иногда она спотыкалась, сдирала колени, но рядом всегда были те, кто утешал и залечивал ее раны.
– Прости, я несу чушь, просто мне никогда не было так легко и так сложно говорить с человеком. Все время думаю о том, что можно сказать, а что нельзя. И о том, что могло заставить тебя настолько закрыться.
– Спускаться с них на землю не было никакой необходимости, – пора заканчивать, – разве тебе не нужно работать?
– Когда я могу позвонить еще? – его голос звучал мягко и грустно.
Мне нужно было просто говорить о картинах, спрашивать о нем самом и слушать ответы.
– Я напишу. Или позвоню сама. Когда поправлюсь, – вспомнила я.
– Тогда…
– И когда проконсультируюсь, о чем разговаривают люди. Чтобы беседа больше не скатывалась в абсурд.
Элай засмеялся:
– Мы привыкнем друг к другу, и станет легче. А пока можем обсудить, например, книги. Как тебе такая тема?
– Я позвоню…
– Тогда не прощаюсь.
Закрыв глаза, я составляла план на оставшийся день: в двадцати минутах езды отсюда есть место, где готовят отменные аранчини и канноли, почти такие же, как на их родине. Тогда, около двух тысяч дней назад, я привезла из путешествия новые вкусовые пристрастия, оставшиеся со мной по сей день, но чуть не забыла там же, в гостинице воспоминания о юноше, ставшем моим вторым любовником.
Из-за отчаяния ли бесплодных исканий или извращенного чувства, что хотя бы так смогу стать ближе к тому, ради кого был проделан столь длинный путь, в одну из ночей я ответила на улыбку молодого человека, чье разительное сходство с оригиналом развеялось следующим же утром: его волосы были просто темными, а глаза удлиненными и совсем без углов. В рассказах подругам о той поездке я опускала мотивы, побудившие меня тронуться в путь, и делала акцент на этом маленьком приключении. Им было достаточно глаголов, эпитетов и моего поддельного смущения на откровенные вопросы. «Его тело было идеальным, кожа медовой», «страсть? Трижды», «утром я хотела сбежать, но во время опомнилась, что мы в моем номере». Вспоминая реакции на мои признания и исповеди, я переставала чувствовать себя лицемерной, потому что, уверена, мои друзья также недоговаривали о своих реальных чувствах, с той лишь разницей, что их переживания я была способна понять.
«Не возвращайся, чтобы ни случилось»
– гласит записка на столе.
Скатерть, занавески, часы на окне – те же, что были сейчас на моей руке – ничего не изменилось за последние восемнадцать лет. Я пытаюсь осмотреться, найти ее, ту, что оставила это бессмысленное послание, ту, что столько лет не показывалась мне, но границы предметов и букв на клочке бумаги расплываются и начинают трепетать. Запах цветов и меда вытесняет воздух из моих легких, и я открываю глаза.
Надо мной нависала каменная плита, а над нею пылала огнем раскидистая крона. Где я? От резкого перехода в вертикальное положение перед глазами замелькали яркие пятна. По руке лениво сползало блестящее жирное насекомое, сухие листья, слетев с куртки, накрыли лежащий рядом блокнот. На его открытой странице чернела неоконченная фраза: «Планы на…».
Жук наконец-то достиг обнаженной кисти и коснулся лапками моей кожи, но я не почувствовала щекота от его шагов. Он нырнул между пальцами и проследовал к могильным плитам по своим делам. Высвободив ладони из мягкой земли, я попыталась размять онемевшие конечности – мучительная мысль словно зависла где-то между ними, казалось, разгоняя кровь, я смогу нащупать ее, вернуть подвижность, как мышцам, так и памяти.
Надписи, разговор, планы… на что? Вернуться, не возвращаться?
Уна и портреты… Элай…
Я все еще была на кладбище!
От внезапного открытия я вскочила на ноги и снова пожалела о своем порыве. Оглянувшись, будто вор в чужом огороде, я не нашла свидетелей моего пробуждения и непослушными окоченевшими руками попыталась сгрести рассыпанные вещи, чтобы поскорее сбежать с неуместного ложа. Наконец, вперемешку с землей и листьями я набила папку бумагой и выбралась из укрытия.
– Вам нужна помощь? – на лице прохожего читались сочувствие и тревога.
Отпрянув от неожиданности, я бессмысленно качнула головой и устремилась к главной алее. С трудом включив на телефоне фронтальную камеру, я на бегу пыталась вытащить сор из запутанных влажных волос. На щеке чернела полоса, стараясь оттереть ее испачканными пальцами, я только сильнее развозила грязь. Умывшись у ближайшего водопроводного крана, я привела лицо в относительный порядок. Редкие идущие на встречу люди косились в мою сторону, но это было не важно. Чужое любопытство всегда обрывается на возврате головы в ее первоначальное положение, с разворотом шеи их снова поглощают собственные мысли и заботы. Лишь невероятно скучная жизнь может стать причиной размышления о столь маловажном событии, как испуганная девушка, выбегающая, не глядя себе под ноги, из ворот кладбища. Но что заставляет мозг вытаскивать из своих архивов воспоминания, что ему же и причиняют страдания?
Та записка лежала на столе в доме, где я росла, в моем доме, на столе, где мы пили чай каждую ночь, с момента побега и до самого моего поступления в академию. На том столе, где после твоего исчезновения почти четыре тысячи дней я оставляла письма, чувствуя кожей даже во сне, что ты за мною наблюдаешь. Пустая кухня, пустой стол и два письма. Ты не давала мне пройти по дому, я закрывала глаза в своей постели и, открывая их, оказывалась всегда ровно посереди кухни. Ты позволяла мне лишь положить запечатанные послания и сразу же выбрасывала обратно. Даже окна были занавешены! Но каждую следующую ночь стол вновь был пуст.
– Десять лет без вестей и твое первое письмо – «не вздумай возвращаться»? Серьезно? Когда я наконец-то решила начать свою собственную жизнь? Да пошла ты к черту! Пошли вы все!
Несколько прохожих озабочено на меня обернулись, но почти сразу же отвели глаза. Я сбавила шаг, рука в кармане что-то больно сжала. Вынув ее вместе с предметом, я невольно засмеялась.
– Новая жизнь, новые привычки, – и закурила второй раз за этот день. И, как ни странно, в это раз это помогло.
В юности, в том кафе, выводя на бумаге черты лица нового утреннего посетителя, – а по воле ли случая или таковой была судьба красивых людей, но едва ли ни каждый второй из гостей притягивал взгляд – исследуя линию плеч, шеи и груди, окутанных вуалью дыма, сочащегося из сигареты, изящно зажатой между их пальцами, я фантазировала о том, какие именно тайны они скрывали, что за уникальные страдания носили в себе эти люди, тление каких печалей они пытались загасить едким дымом. Ответ оказался банальным, теперь я это понимала. Таким же банальным, как и причины, по которым те незнакомцы либо покидали кого-то в столь ранний час и, желая продлить минуты до возвращения в свой дом, соглашались на временный приют, либо не могли уснуть всю ночь и, перестав бороться, оказывались с сигаретой за столиком недалеко от первых, либо… Подобных «либо» было множество, и все они брали свое начало в природе человека. Легкое разнообразие им придавало лишь индивидуальное пристрастие к тем или иным сортам порока, а тяга к страданиям – мой собственный грех – было как раз одним из них. Так на выходе получался человек обыкновенный, упивающийся, как ему казалось, своим совершенно исключительным и оттого невыносимым положением. За той дымкой не таилось никаких сакральных знаний, но она помогала им прикрыть слабость и помочь не растерять остатки жалких сил.
Курить в этот раз было легче, никотин расслабил сведенные мышцы, а от быстрого шага стало теплее. Донимала лишь легкая голодная тошнота. Ноги по привычке выбрали верное направление и уже почти донесли мое тело до закусочной. Играл ли со мной собственный разум или родной человек решил, что имеет право на любопытство спустя столько лет, будто в порядке вещей было проверить, как срастаются ткани, заново вскрыв едва ли заживший операционный шов – что это, если не жестокость? В обоих возможных вариантах мотив послания был глуп и бессмыслен: если бы я о них забыла, то никогда бы не вернулась, но если бы помнила, то бросила бы все, не внимая любым предостережениям. А человек, оставивший смятую записку, был вовсе не глуп и в своем даре мог намного больше, чем устроить скучное статичное представление. Пока я спала, пока присутствовала на кухне, пусть лишь мгновение, но достаточное для того, чтобы сделать единственный выверенный шаг и прочесть «не возвращайся…», я знала, чувствовала – она следила за мной! Во сне бабушка могла перенести меня в любое место, что когда—либо видела, в любое – но мы снова были на ее кухне.
Еда оказалась безвкусной, возможно, она и раньше была такой. Мой план на этот день провалился. Безуспешно стараясь отвлечься, мысленно я постоянно возвращалась к тому немногому, что мне осталось после сна: распахнутые занавески, часы на окне, но что было за его стеклом? К чему этот кадр из прошлого? Чьей памяти то была ошибка? Я что-то упускала, словно герой простенького романа, введенный в забуксовавший сюжет. Он проходил по нескольким страницам, и, выполнив свою миссию, бесславно исчезал, так и не осознав себя функцией, с которой бы справился любой другой набор букв.
На полке рядом с моим столиком лежало несколько оставленных посетителями книг. Насколько я любила читать в Убежище, настолько я разочаровалась в этом занятии снаружи, где герои романов были лишь фантазией тех, кто сам не умел жить.
Мои любимые книги были написаны на коже и высечены в камне.
– Гробы и книги сделаны из одного материала, и разве не любопытно узнать, что прячется под их обложкой? – спросила однажды Та, что жила в архивах.
Тогда я не поняла ее вопроса, не уверена, что разобралась и сейчас. Ведь там, где я родилась, в письме не было практической нужды, а люди не умирали. По крайней мере, при мне.
Ее обитель сложно было назвать библиотекой в привычном для внешнего мира значении этого слова. Имя автора единственной современной книги, что я видела в том доме, стало одной из немногих зацепок, связывающих меня здесь с карьером. Но, увы, не помогла и она, оставив в память о себе лишь сюжет второсортного приключенческого романа.
Мало кто отождествляет себя с гниющим в деревянном ящике телом, еще меньшее количество людей обладает знанием, когда и как они умрут. Довольно поздно столкнувшись с явлением конечности жизни, я почти не задумывалась о том, что бы было, коснись я того, кто мог стать причиной моей собственной смерти. Указала бы ему на верхушку дерева? Еще утром под солнцем дышать казалось проще, но на секунду мелькнувшее видение из детства вернуло меня в реальность: на том дереве было так легко и свободно! Так может, если некому меня поймать и предостеречь, бояться оступиться тоже не стоит?
Едва переступив порог квартиры, я упала на кровать и, глубоко зарывшись в одеяла, взмолилась о забытье. Но страстное желание продолжить сон с момента, на котором меня бесцеремонно выбросили обратно, и встретить тех, кто прятался от меня столько лет, слишком возбуждало и не давало уснуть. Что за трусость? Вы выставили меня из дома и не посчитали нужным объясниться, а теперь, когда я почти вас забыла, вы просите не возвращаться…
…и я поняла, что упускала.
«… что бы ни случилось» – заканчивалось ее послание.
Что-то должно было произойти.
Так началась моя бессонница
дни в забытьи, а ночи…
Не помню, как прошел день вчерашний, и наступило сегодня и были ли в этом промежутке другие дни. Закончилась ли чертова ночь или еще продолжалась? Сегодня или завтра я открыла глаза – не затянутый тучами рубиновый отрезок неба освещал уже угасающий вечер.
Кажется, за все то время, что прошло с посещения кладбища, я выходила из квартиры лишь однажды. В тот день полка с едой окончательно осиротела, а тело, превратившееся в измятый комок ваты, потребовало одновременно движения и отдыха. Помню, что обнаружив себя с двумя апельсинами в парке недалеко от дома, я вновь ощутила непомерную усталость и поплелась обратно в постель. Но влажные простыни лишь усилили чувство беспомощности. Когда сразу по окончанию школы меня перестал ждать на столе горячий чай, я впала в отчаяние, и, пожалуй, с тех самых пор ни с кем не была искренна ни дня. Но тогда у меня еще были планы. Ночами я писала: всматриваясь в детали картин, что хранила моя память, я переносила их на бумагу, а затем выстраивала маршруты – длинные, через материки, в другие, уже не существующие страны, где забыли ваш язык, и на остров, который не сохранил о Нем даже эха. Когда же не оставалось сил, чтобы стоять или сидеть, в попытках уснуть я часами повторяла одну и ту же мантру.
«Я найду тебя, слышишь?»
Если бы бабушка увидела меня сейчас, она бы непременно привела меня в чувство, ведь разве «не становится грусть чуть прекраснее, когда тебя радует отражение в зеркале?»
Бесполезно бороться с наваждением, если не имеешь возможности осушить его источник. Противостоять бессоннице бессмысленно, нужно всего лишь определиться, следовать ли за здравым смыслом или попытаться от него сбежать. Но зачем переоткрывать истину, найденную за сотни лет до тебя? Наш мир зацикленный, круглый, и, куда бы ты не бежал, при любом исходе окажешься в той же точке, с которой ты начал, или где-то неподалеку. И, что хуже того, как бы не воспевали поэты бесконечную свободу мысли и воображения, наше сознание было ограничено, и ограничено буквально – костью, а у кого-то – головным убором. И потому, любая передышка грозила необходимостью остаться наедине с самим собой. Поэтому почти счастлива я была только в дороге, в фантомной близости с вами, с наивной надеждой, что в это раз удача мне улыбнется, и я найду ваш след. Этими мгновениями парадоксально хотелось поделиться и не делить их ни с кем, а теперь они были обесценены самым близким мне человеком.
В одну из ночей ко мне пришла идея посчитать, сколько дней прошло со дня моей болезни.
– Но зачем? Три-пять-семь? – потянувшись за телефоном, я тут же отбросила эту мысль, когда увидела очередные пожелания скорейшего выздоровления из студии, пару сообщений от знакомых и одно новое от Элая.
«Я слишком навязчив?» – навязчив ли? Да все равно. Совсем не помню, как мы пришли к этому вопросу и о чем беседовали до. Пролистав переписку, я обнаружила, что была вполне вежлива, отвечая на его дневные сообщения на рассвете. В памяти остался пропущенный звонок, я не решилась взять трубку: долго не бывший в употреблении голос пропал, но извлеченный словно из горла умирающего животного хрип помог бы мне косвенно подтвердить ложь о болезни. Отказавшись от помощи, мне почему-то стало неловко за обстановку моей маленькой студии, в которой из мебели были лишь шкаф, постель, мольберт и пара полок. В каком-то смысле, моя квартира оставалась девственной, я не приглашала сюда даже друзей. Но не по причине скудности оформления, хотя им бы пришлось сидеть на полу, а из-за вопросов, которые могли возникнуть при взгляде на разрисованные стены, древние карты и книги на неизвестных им языках – даже смирившись, я не все спрятала в шкаф и не хотела быть узнанной.
«Нет, что ты».
Воздух пах необычно. Осенью масляные испарения от холста разбавлял прилетающий из распахнутого окна терпкий аромат гниющих листьев. В Убежище подобная смесь была невозможна – там, в Храме, запах краски объединялся с дымом благовоний, а дождь шел только в вечно зеленом, неправдоподобном в своем разнообразии лесу, чей растительный мир пополнялся удивительными видами цветов и деревьев с приходом каждого нового жителя. В детстве мне не требовалось объяснения подобных явлений. Как и многих других, что могли бы считаться чудом где угодно, стоило только ступить за кромку огромной каменной чаши, бывшей мне домом.
Я прислушалась: удушающе-влажный, то был запах уныния и протухшего мяса, что усиливался под действием остатков дневного тепла. Этот запах я уже встречала – в той кофейне и в подобных ей на других континентах – человеческое разочарование везде пахло одинаково. Мне было необходимо выйти из дома – сейчас или уже никогда.
Аномально-теплая для конца сентября погода покидала город. Сладковато-горький, сгущенный до состояния зефира воздух давил на плечи. В кармане завибрировал телефон. Проверив, не окончательно ли пришли в негодность мои голосовые связки, я нажала «принять вызов»:
– Привет, – и все же, говорить было больно.
– Почему я слышу звуки проезжающих машин?
– Ветра нет, – а жаль, кажется, я чувствую свой запах, – на улице тепло, а мне нужен был кислород, пока день еще жив.
– Сказала бы, я принес. Или мог бы научить открывать окна.
В редких островках чистого неба сияли звезды. От яркой вспышки фар заболели глаза.
– Не хочешь разговаривать?
– Не знаю о чем.
– О книгах, помнишь?
– Знаешь, на минуту мне показалось, что наш разговор я уже слышала или читала, – глубоко вздохнув, я задумалась, но ответ пришел быстро, – вспомнила. Временами мы обмениваемся с нашей общей знакомой книгами. В них, в большинстве своем довольно легких и романтичных, слепленные по единому шаблону и кочующие из незатуманенных голов одних авторов в другие, встречаются-общаются-влюбляются главные герои, и все это они делают в иллюзии своего отличия от окружающей их серой массы безликих людей.
– А чем тебя так пугает шаблон? Помнишь, что классик говорил о счастливых и не счастливых семьях?
– Другой же постулировал: в страданиях прекрасен человек!
– И ты с ним согласна?
– Нет, я никогда не была с ним согласна. Ведь, если бы ты меня сейчас увидел…
Элай засмеялся, и я невольно улыбнулась в ответ. Под лобной костью что-то больно щелкнуло.
– Мне начинают нравиться подобные паузы. Они похожи на минуты стеснения, на что-то искреннее в процессе узнавания. И вся твоя несовременность…
Я прервала его:
– Почему ты думаешь, что у меня никого нет?
– Я работаю с твоей подругой. Но почему ты не спросила, есть ли кто-то у меня?
Вопрос застал меня врасплох.
– Верю в твою честность.
– Или просто не веришь в меня.
– Вера – предмет для обсуждения сложный. В людей, в идеи, в политику. Дело не в тебе.
– Нет ничего плохого в том, чтобы узнать другого человека.
– Он может оказаться никчемным, – за последний год я не написала ничего стоящего.
– Если только я не ошибся, и ты не просто боишься быть откровенной или уязвимой, а тебе нравится чувствовать себя уязвленной.
Довольно грубые слова, но меня они не задели.
– Ты удивишься, если я скажу, что тем, кто мне нравился, я давала понять это первой?
Сквозь деревья показалась темная гладь пруда.
– Может теперь тебе нужно, чтобы тебя добивались?
– Звучит в духе наивного романтизма.
Странно было слышать тишину с его стороны.
– Моя ошибка. В то утро я с самого начала вел себя как дурак. Поверил твоей подруге о богеме и прочем, – я услышала смешок, – она не говорила, какая из твоих картин понравилась мне больше всего? Любовники. Ты сама идеализируешь чувства и обвиняешь меня в сентиментальности. Зачем ограничивать себя в себе же самом?
Если бы Элай знал меня лучше, он бы имел не одну и не две причины упрекнуть меня в лицемерии: не упоминая моего последнего, третьего любовника, я лукавила, но в глазах подруг была героем – два года ни к чему не обязывающей связи с мужчиной, имени которого я не знала. И просила никогда не называть. Я нашла в кармане пачку сигарет.
– Та картина, она не о любви, она о ее поиске.
Залитая теплым светом фонарей набережная ограничивала собою темное пространство пруда, словно прозрачный стакан с заваренным в нем черным чаем. Но в его стенке имелся изъян, небольшой скол, из которого вода просачивалась наружу и в летний зной привлекала к себе толпу людей. Где были они сейчас? Где влюбленные, поэты и философы проводили эту совершенную ночь? Поддавшись порыву, я сняла обувь и впервые за много дней что-то почувствовала: от прикосновения влажного песка к усталой коже, увязая в нем, я медленно растворялась в чем—то большем…
– Ты ведь сейчас пропустила все, что я говорил?
Черт… и я открыла глаза.
– Прости, – но этого было недостаточно, – я веду себя невежливо, глупо, поверь, я понимаю это. И я, возможно, хочу расспросить тебя обо всем на свете, но не могу, не сейчас. Все разговоры – они уже были. Неважно с кем: мы повторяем одни и те же истории, что случались с нами и с другими людьми. Видишь, какую чушь я несу? Поэтому, потом, немного позже…