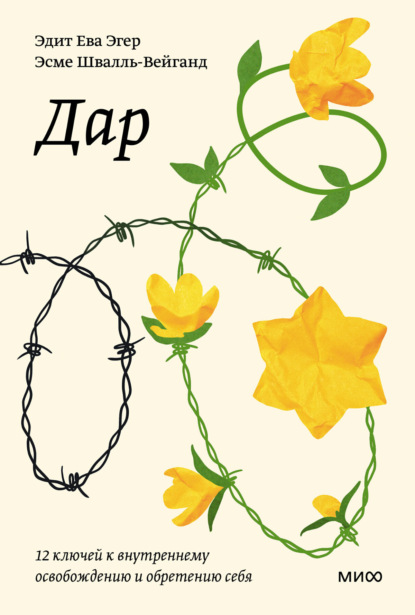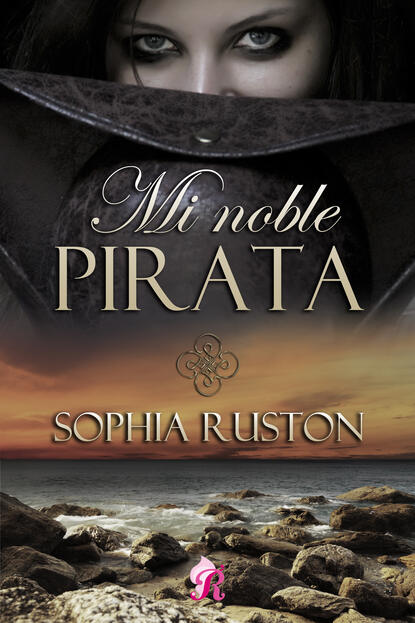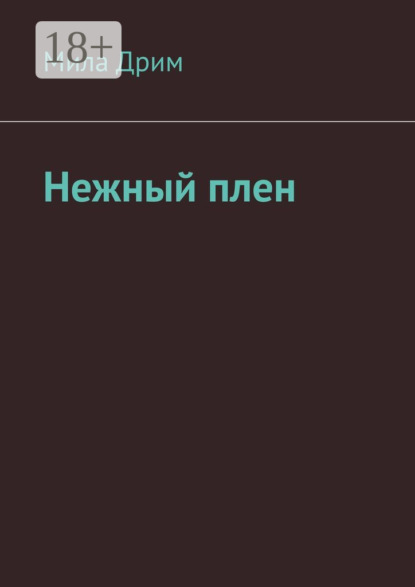Noli me tangere

- -
- 100%
- +
– Уна… Давай я приеду. Или ты… я могу забрать тебя к себе. Просто побуду рядом эту ночь. А завтра выйдет солнце и прогонит все кошмары.
Я легла на прохладный песок. В ночной тишине звук голоса Элая успокаивал, казалось, это говорил ветер.
– Знаешь, когда я впервые его увидела – Солнце – я подумала, что оно искусственное, что этому миру из-за его несовершенства нужен дополнительный источник для подсветки неба. Ведь у меня дома идеальное небо сияло само по себе… Почти все здесь, каким бы громадным оно ни было, казалось мне поначалу смешным и ненастоящим.
Элай молчал. И, глядя на единственный уцелевший среди сплотившихся туч островок чистого неба, я продолжила:
– А звезды… он рассказывал мне о них легенды и на прощание дал наказ – найти созвездия, под которым родился… и я нашла. Но за столько дней, знаешь, карта неба имеет свойство меняться, и над островом, где я впервые ощутила масштаб и красоту этого мира, тоже…
Молчание. Почему он все еще был со мной?
– Дома ночного неба в здешнем его понимании нет, – я засмеялась, – никто не знает, но мой дом прячется от всех под переливающимися невероятными красками облаками. Каждый вечер они сбегаются, чтобы скрыть его жителей от посторонних. А теперь и от меня…
Макушки деревьев за прудом бесшумно вспыхнули и сразу погасли.
– Значит, ты что-то помнишь о доме? О семье, родителях, братьях или сестрах?
– Помню место, возникшее из ниоткуда, и людей свободных от здешних пороков, ведь когда-то им было дарована вечность, а потому, представь мое удивление, когда я оказалась снаружи? Я помню всех. Или думаю, что помню.
– Уна…
Так называл меня только Он, и я оставила себе это имя.
– Я не хочу, чтобы это прозвучало грубо, но то, что ты описала – так люди, и я в том числе, помним мир своего детства: большим, пусть он был и мал, сказочным, полным волшебства. А управляли им мудрые взрослые. Так может и не важно, кем ты была первую, не слишком осознанную треть своей жизни?
– Однажды один не глупый человек сказал мне: не нужно искать себя – придумай! – и я закрыла глаза.
Он купил одну из моих работ. И затем еще три.
– А это – художник, чью картину вы только что приобрели, – куратор выставки оглянулась на подаваемые ей ассистентом знаки, – простите, мне срочно нужно отойти.
Улыбаясь немного хищно, мужчина протянул мне руку и почти уже произнес «Нас не представили…», когда я его опередила:
– Пожалуйста, не нужно… – снимая перчатку, я разглядывала его загорелую кожу, – мы можем быть просто автором и тем, кому понравились его работы.
– Поклонником, – яркими, четко очерченными губами, он прикоснулся к моей руке. Ночью лунный свет, льющийся из огромных окон его спальни, отражался блеском в Его глазах.
– Думаю, я начинаю улавливать моменты, когда ты выпадаешь из этой реальности.
Я снова посмотрела вверх, но брешь затянулась, и на горящую кожу моего лица упало несколько капель холодной воды.
– Прости, прости еще раз. Сейчас… помнишь… знаешь таких старых кукол, они еще стонали «мама», когда их переворачивали?
– У моей племянницы есть такая.
– Автоматически открывающиеся глаза и стеклянный взгляд, устремленный в одну точку – они безумно пугали меня в приюте. Депрессивные, за что-то проклятые, обреченные не спать. А теперь я сама будто стала одной из них.
Гладь пруда зазвенела под слабым дождем, но то была увертюра к чему-то большему, еще зарождавшемуся.
– Вчера племянница попросила нарисовать ей принцессу. Черная водолазка, классические брюки – совершенно не претенциозная вышла принцесса, несовременная и пытающаяся не выделяться из толпы, но с короной, малышка настаивала. Думаю, лучше всего получились глаза, вот их она дорисовывала сама по моему описанию. Вышло похоже.
– Почти на всех лицах, когда выводишь их на бумаге, можно найти следы пороков их владельцев. Хотя, возможно, мне только так кажется. О чем ты говоришь с другими девушками?
– Ты думаешь, есть заготовки?
– Нет, я лишь пытаюсь от чего-то оттолкнуться.
– Мне нравиться именно наш разговор.
– Просто… помоги мне почувствовать себя нормальной.
Моя одежда промокла насквозь, и от ее тяжести, под давлением потоков воды я медленно тонула в песке, попутно лишаясь веса и здравого смысла.
– Если бы наш разговор был легче, я бы хотел… – но, вместо того, чтобы закончить мысль, Элай глубоко вздохнул, будто перед прыжком в воду, и задумчиво произнес, – по какой-то причине у нас все пошло не так. Обычно есть время для флирта, для оценки человека, для игры. Подобные игры шаблонны, но от того не менее приятны. У нас же с тобой нет равновесия – ты знаешь о моей симпатии, я же – только о том, что все по той же неизвестной мне причине ты все еще не положила трубку.
Он остановился, я отсчитывала циклы дыхания и слушала, как мелодия дождя перерождается в сплошной белый шум.
– Думаю, мне знакома одна из таких игр, – казалось, вода наполняет меня через глаза, и я сомкнула веки, – но, думаю, ее принцип несколько отличался от описанного тобою. Я всегда выигрывала… Возможно, он просто поддавался.
– Ты ни во что не веришь?
В сумерках его комнаты мы стояли напротив высокого антикварного зеркала, в котором отражались в полный рост.
– Нет, – руки моего безымянного любовника скользили по моей обнаженной коже.
– Почему?
Правила игры были просты: будто сказки на ночь, требовалось всего лишь слушать его рассказы и суждения, мне не нужно было даже соглашаться или спорить. В эти часы мой взгляд был полон восхищения и, возможно, он принимал это за любовь, ведь главная роль отводилась зеркалу – в нем я могла увидеть рядом с собой того, кто никогда меня так не касался.
– Если боги существуют и наши молитвы достигают их ушей, то это означает полное отсутствие свободы воли, как у нас, так и у них. Если же кто-то, от скуки ли или разочарования, создал нас и пропал, то зачем тратить время на пустую веру? Религия – ограничение, это поняли еще в древности.
Но все-таки я его слушала и часто размышляла над сказанным им. В моей прошлой жизни существовало множество богов, но я не знаю, насколько в них верили те, кому эти боги принадлежали.
– Так может, мы лишь паразиты на божественном теле?
– А разве вши поклоняются человеку?
– Значит, никаких правил, никаких ограничений?
– В юности я соблазнял девушек, рассказывая им серьезные, как мне казалось, теории, – он продолжал говорить, не прекращая исследования моего тела, – например, о том, что ограничения нужны, но их суть должна претерпеть изменения в более гуманную сторону. Допустим, за преступления человеку можно предоставить выбор: сесть в тюрьму или быть сосланным на территорию, где не действуют никакие законы, где нет помощи извне, нет связи с внешним миром, технологий, правил. Есть просто место, с такими же свободными людьми, как и ты. И, быть может, кто-то и сам захотел бы туда уйти.
– А если бы они в итоге начали представлять угрозу для тех, кто остался в цивилизации?
– Для этого потребовалась бы самоорганизация, построение системы – чем бы тогда они отличались от тех, кто их же сослал? А горстка сброда не представляет угрозы. Мысль проста: если один человек убивает и другой делает то же в ответ – это не должно вызывать удивления у первого. Но подобное наказание должно быть соизмеримо преступлению. И даже у совершивших тяжкое преступление должен остаться выбор: тюрьма или опасность свободы.
– И они верили, что ты это придумал сам? – за этот лукавый блеск в его глазах я была готова отдать все прочие дни моей бессмысленной жизни, – не думаю, что ты в это верил. А сейчас? Чем ты прельщаешь женщин сейчас?
– Обычно достаточным аргументом является признак наличия денег. К тому же, я неплох собой. Но все еще остается загадкой, что именно из этого привлекло тебя? – он остановился и, как часто делал раньше, слишком пристально, слишком серьезно посмотрел в глаза моему отражению. Я не успела научиться не терять самообладания в такие моменты.
– Твоя свобода и органичность пребывания в этом мире, – я была честна перед ним, пусть этот набор никогда бы не стал решающим в моем выборе объекта любовного интереса, – я завидую таким людям, как ты. Быть может, потому что до сих пор в нем себя не нашла.
– Не нужно себя искать, просто придумай!
И вновь я была близка к победе. Когда один из игроков начинал увлекаться разговором больше, чем соперником, побежденный оказывался поверженным на спину, задавленный ласками победителя. Но я не удержалась еще от одного вопроса:
– А ты? Ты сам живешь по этому принципу?
– Мне не нужно. Я принял правила этого мира, и они мне подходят. Они дают силу управлять теми, кто их не понимает. И дело не в примитивном стремлении к богатству или власти, а именно в том, что без противоречий я могу быть снаружи тем, кем являюсь внутри. Почему ты улыбаешься?
Вывернувшись из рук мужчины, отвлеченного на терявший всякий смысл разговор, я повалила его на кровать и укусила за плечо.
– Все, я понял, ты победила. Снова…
Тот вечер был необычен, я запомнила его по сладкому аромату меда и цветов, что преследовал меня всюду и догнал даже здесь. Свернувшись у груди безымянного любовника, уставшая, я всегда засыпала очень быстро, но он решил продолжить оставленный было диалог.
– Наверное, я глупец, ведь я так люблю в тебе то, что ты живешь в своем собственном мире, не отвлекаясь на происходящее вокруг, и вместе с тем, именно твою отрешенность я хочу исправить. Изменить, хотя бы по отношению ко мне.
– Покинуть иллюзорный мир?
– Существуют и те, кому нравится этот. В нем ты сможешь действовать без страха, я помогу. Здесь все думаю только о себе, но есть место и чудесам.
Я поднялась, чтобы увидеть его лицо.
– Ты говоришь о нас, но ты меня совсем не знаешь. Мое прошлое…
– Безопасность, еда, воздух – элементарные потребности, но я знаю еще одну. Казалось бы, она мало очевидна – всего-то, необходимость называть близкого человека по имени…
– Тогда помоги отыскать! С твоими возможностями…
– Прости, я искал, но все документы потеряны. Ты возникла из ниоткуда.
– Этот человек, он все еще присутствует в твоей жизни? – голос Элая звучал тихо, усиливающийся дождь заглушал его. Казалось, разомкнув веки, я обнаружу себя внутри лампового телевизора, который забыли выключить по окончании программы передач. Вода затекала через нос, проникала сквозь сомкнутые губы, и чтобы ответить, мне потребовалось приложить усилие:
– Он умер.
В тот день, когда я в очередной раз покидала его дом, уже в дверях, по одежде, по его взгляду на часы и блику солнечного света на лице, я вспомнила – именно эта картина была последним кадром в нашем знакомстве. Мы не попрощались. Вечером того же дня мне позвонила куратор выставки, на которой мы познакомились. Его водитель заснул. Всего на несколько секунд, но этого было достаточно.
Следующая ночь прошла без снов, а, перестав их видеть, я больше не могла оставлять писем на столе моего настоящего дома – меня изгнали повторно.
– Уна, у вас ливень, я слышу. Иди домой.
– Он очень теплый. Элай… – вместо того, чтобы смыть с меня запах бессонных ночей, дождь усилил его до зловония выброшенного на берег утопленника.
Еще недавно ровная гладь пруда исказилась под натиском вонзающихся в нее водных стрел, дрожа, будто от боли.
– Уна, послушай…
– Все нормально, Элай, просто сейчас я – не лучший собеседник. Может быть, выпьем кофе, как только я поправлюсь? – соврав и не дождавшись ответа, я положила трубку.
В темноте вода обретала свободу
Прозрачная и уязвимая днем, к ночи она уставала притворяться. Вязкость, запах, плотность – с уходом солнечного света она обретала возможность меняться.
С трудом сняв прилипшую к телу одежду, я намочила пальцы – песок обманывал, вода была ледяной. Едва сделав два шага вперед, я перестала видеть свои ступни, а, погрузившись до бедер, потеряла чувствительность ног. Как и тогда, увидев море впервые.
Не умея плавать, я пришла ночью на пляж. В историях, что ты мне рассказывал в детстве, море всегда было стихией своенравной и гордой, но никогда оно не несло в себе угрозы. На мое счастье, соленая ледяная волна, накрывшая меня с головой, отбросила мое даже не пытавшееся бороться тело обратно на берег. Спустя три года я вернулась и поняла, что ты имел в виду: там, где небо, утопая в едва измеримой дали, переставало быть бескрайним, в полмили от земли, раскинув руки, не дыша, я наконец-то почувствовала твою близость, а свобода, охватившая меня так же отчетливо, как и течение, что сулило унести в открытое море, обещала путь простой и короткий. Лишь внезапно зажженный маяк, что заглушил мелодию, манившую из непроглядной тьмы, вернул меня обратно в реальность. Не прояви я в тот миг малодушие, не поверь в знаки, что призывали вернуться на берег, но открыв глаза шире, отпустив дыхание, возможно тогда – тогда бы я смогла провалиться сквозь непрерывно меняющийся барьер и оказаться дома. Как же наивна я была! А ведь подсказки – вот же, они кричали прямо подо мной! Танцовщицы клялись, что попали в Убежище, когда, достигнув предела отчаяния, увидели льющийся из почти высохшего колодца свет, а, прыгнув в него, в следующий миг очутились на воле. В месте, что стало им впоследствии домом.
Вода обожгла мои плечи. Я закрыла глаза и нырнула вглубь пруда.
Переполненный желудок, нервы, бьющие тревогу, сведенные судорогой мышцы – я не знала, сколько могло пройти времени с момента погружения, с момента, когда, открыв глаза, я не увидела ровным счетом ничего, но почувствовала… или мне показалось?
Одежда, берег – все справа, пятьдесят мучительных гребков и я выползла на мокрый песок. Откашлявшись, я попыталась извлечь из себя мерзкую жижу, но ничего не получилось, она застыла в животе куском грязного льда. Мозг не спешил возвращать парализованные холодом функции; вряд ли в том, что я выбралась, была его заслуга.
Дождь почти прошел, редкие теплые капли согревали кожу. Не дожидаясь, пока дыхание придет в норму, я пыталась непослушными руками вернуть мокрую одежду на липкое тело. Глупая затея. Отбросив носки и майку, посчитав успехом втиснуть ноги в джинсы, я надела ботинки на голые ступни, застегнула куртку под горло и, не оглядываясь, побежала домой.
– Какая же я дура! Никто бы мне не помог!
Меня спас животный инстинкт.
Там, в пруду время застыло, оно почти засосало меня вглубь, на самое дно, где не нашлось и капли света – прошли секунды или минуты, когда выдавленные из скованной холодом головы мысли обрели форму: итогом моего безумного порыва, фантазий, сказок, желаний и стольких лет поиска стало… ничто!
– Глупая дура… вас… их не существует, не существовало… – несколько веток подряд скользнули по моим щекам.
Спотыкаясь, пренебрегая асфальтом, я шла короткой дорогой сквозь парк. Дождь утих, как и боль в голове.
– Они правы, нужно выбросить все изображения, покончить с памятью, начать придумывать себя заново… – яркий свет привлек мое внимание, в двух шагах от дома горела вывеска круглосуточного магазина.
Я не стала придавать внимания реакции продавца:
– Виски, – судорожно ища в карманах деньги, попросила я.
– Подешевле? – его взгляд упал на ручей, что тянулся от самой двери и до лужицы у моих ботинок.
– Ирландский. Пожалуйста.
Протянув смятые, но сухие купюры, я посмотрела на часы – секундная стрелка не двигалась. Не помню, чтобы я их снимала, заходя в пруд. Когда бабушка дала мне их в дорогу, они не ходили. Отремонтировали их только через три тысячи дней после побега, с моего первого гонорара. В момент, когда мне вручили громко тикающие часы, я посмотрела на утекающее в моих руках время и впервые осознала разницу: в убежище время не ускользало от жителей, каждое утро оно возвращалось к ним обратно. И потому, вместо веков и лет они считали дни – дни пребывания в карьере, что констатировали опыт, новое начало. Тогда как здесь, снаружи, годы служили людям отметками, напоминавшими им о краткосрочности их путешествия. Возможно, и мне теперь нужно начать свой собственный отчет оставшихся мне лет и перестать считать дни до возвращения домой.
Эти часы, зачем они были нужны бабушке? Из какой жизни она их принесла?
– Что случилось, милая?
– Уже ничего.
Открыв дверь с пятой попытки, я наконец-то была дома. В коридоре, одновременно избавляясь от приросшей к коже одежды и пытаясь открутить пробку на бутылке, я порезала палец. Как будто бы глубоко, но в тусклом свете, исходившем от окна, крови не обнаружилось, видимо, она просто застыла в венах или мое сердце окаменело. Сделав большой глоток янтарного напитка, я почти потеряла равновесие – новая жизнь, новые привычки. Сползая на пол, я задела включатель и комнату озарили цветные огни восточных ламп – как и картины, их нужно будет выбросить, избавиться ото всех воспоминаний, сувениров и глупых манер. На полу валялись эскизы, я сделала второй глоток и поднялась закрыть окно.
– Давно нужно было тебя выкинуть, – канделябр, обнаруженный в шкафу рядом с завернутыми холстами, был подарен преподавателем на один из выдуманных дней моего рождения, точную дату которого я так и не смогла вычислить, – «он тебе подходит»… Какая безвкусица для человека, который…, для… как же его звали?..
Бестолковая вещь отлетела к входной двери.
– Сжечь вас к воронам! – с трудом выволочив из глубин шкафа сверток с картинами, я затащила их на кровать.
– И уехать. Начать придумывать себя заново. Слышишь?!
Я ли это или алкоголь? Не важно! Впервые за столько дней я почувствовала порыв к действию. Третий глоток и все картины были расставлены по периметру комнаты. Схватив было последнюю, я ударилась ногой об угол кровати и упала на колени, но боль не пришла. С полотна у окна на меня нагло смотрели глаза танцовщиц.
– Всегда веселы и насмешливы, помните ли вы как учили меня танцевать? В театре, да, на каменных ступенях, с вечными, негаснущими папиросами. И пока позировали скульптору… А он… он переводил в камень, ловил мгновения грации ваших тел, пока я рядилась в пестрые одежды, звенящие украшения, коих всегда было на каждой из вас с избытком, – нарисованная одежда под моими пальцами была шероховатой, а смуглые лица – теплыми и гладкими.
– Самые удивительные глаза, что мне встречались, – их разрез убегал вверх, в то время как линия рта стремилась вниз, создавая невозможно притягательную, вызывающую красоту, – ароматные волосы и яркие белые зубы. И самая красивая грудь. Я нашла ваше племя по песням, по тем легендам, что вы рассказывали мне, нашла в историях этого мира упоминания об участниках тех событий, что вынудили вас искать спасения в колодце… Но, хватит!
Я оглянулась в поисках виски:
– За вас и за тебя, мой прекрасный воин, мне предлагали… мне хватило бы тех денег на полгода жизни в стране, где тебя еще помнят. И где не знают, что у тебя есть прижизненный портрет, – салютовав мужчине в камзоле, пристально вглядывающемуся в свое отражение на лезвии меча, я сделала очередной глоток. Что-то прогнулось внутри, дышать стало легче, мужчина с портрета – сейчас бы он считался еще юношей – бросил на меня короткий взгляд. Государь сказочной, как мне казалось ребенком, страны. Теперь я знала, что она существует, но не знала, действительно ли ты был ее царем.
Нам нужно попрощаться.
– И с вами, – два бледных лица, что так сложно дались мне. Я помню легенду: вы сбежали, чтобы быть вместе. Но почему же вы всегда молчали друг с другом? Достаточно просто смотреть, достаточно, чтобы кто-то так смотрел на тебя. Вечность. Но почему вы молчали? Это и есть любовь?
Поднявшись, я попыталась одними пальцами ноги грациозно уронить их портреты лицами на пол, но вышло неуклюже и, опрокинув холсты, я сама едва удержалась от падения, ухватившись за мольберт у окна.
– Элай? Когда я начала тебя…? – моя рука проехалась по полотну и теперь на написанном маслом, еще не высохшем портрете, от взъерошенных волос и до шеи юноши тянулись три неровные полосы. Аромат воздуха после дождя смешался с запахом краски, и казалось, это был тот же запах, что я вдыхала в кофейне, когда он сел ближе, – теплый и еще слишком свежий Элай.
И я облизала краску с пальцев.
– Разве не странно, что все цвета одинаково пахнут и неотличимы на вкус?
Выдавив слишком много алого на палитру, я начала старательно выводить имя в углу портрета. Похожие надписи были на каждой из расставленных картин – имя изображенного на языке, на котором тот говорил. Проведя испачканными пальцами по губам Элая, я окончательно испортила работу. Ощущение от прикосновения к невысохшей краске, пока она была еще словно живая, всегда приносило мне почти чувственное удовольствие. На картину, оставшуюся на постели, ушло более пяти месяцев, не малую часть из которых я искала, смешивала цвета под оттенок его кожи, под тени и отблески на его скулах; пять месяцев, потраченных на то, чтобы его черные глаза засияли так же, как в детстве, когда он смотрел на меня.
– Ты – напоследок, – еле сдерживаясь, чтобы не обернуться, я сделала еще глоток, – кожа цвета застывшей смолы. И на вкус она должно быть как янтарь. Именно такого вкуса, каким ты представляешь себе должен быть янтарь.
Элай смотрел на меня вопросительно, слишком искренне.
– А какой вкус у твоей кожи? – я вытерла руки об обнаженные бедра.
Вершин мастерства мой первый любовник достиг лишь на одном холсте – им стало мое тело, что же касается живописи – он был посредственен.
Комод с красками и прочим живописным скарбом возник на моем пути так же внезапно, как и мольберт, хотя оба получили свою обитель в этом скромном доме со времен моего заселения. К комоду стояли прислоненными еще две картины. На одной из них – три старика.
– К дьяволам! Сейчас я пьяна не менее вас!
Здесь, в этом мире, меня долгое время удивляло, зачем люди стареют? Как долго можно было так прожить? Но я смотрела на них с любопытством – где же предел? Все детство я думала, что быть старым – это добровольный акт; в моем мире было лишь несколько примеров. Бабушка, но она не дряхлела. Ее морщины и неуемная энергия – она отличалась от всех пожилых людей, что встречались мне здесь. Но в убежище жили и другие, значительно, значительно старше ее. Не старее, а именно – старше. Как эти трое, чьи следы я искала у священной реки. Они были старыми, но это был их выбор. Мама, как и все взрослые, которые, не понимая какое-либо явление, страшились его, заклинала никогда не подходить к старикам, испачканным сажей. Я была послушной, обходила их стороной, но временами они могли заговорить со мной сами. Так ребенок, не сталкивавшийся ранее с определением слов «страх» или «опасность», узнал новое слово, но не его значение: «Наш Милостивый бог презирает смерть». И я убегала, а сейчас, узнав о вас больше, но так и не найдя ответа, что же вы делали там, в убежище, поняла, что меня смущало:
– Так он бог, что ему до того?!
Кажется, я устала. Или пьяна. Сжечь всех или продать и уехать.
– Ох, на потолке я никогда не рисовала…
Когда я переехала в эту студию, свою собственную, что, казалось бы, должно было стать предметом гордости и счастья, ведь мало кто из ровесников имел собственное жилье, то сразу, вместо приобретения мебели или чего-либо еще нужного для комфорта, я принялась расписывать все имеющиеся поверхности.
– Я просыпалась, глядя в твои треугольные глаза, в мечтах снова оказаться на маяке, за твоей спиной, чтобы смотреть на жизнь сверху вниз, находясь на уровне земли, в огромной яме. Почти сразу я начала искать все карьеры, природные и искусственные провалы, ущелья в радиусе хотя бы не дальше тысячи миль. Все маяки и башни… Могла ли я сбежать из другой страны или континента?
Надо мной нависал, словно отколотый кусок неба, голубой потолок. Пол цвета песка – единственное, что осталось неизменным после того, как я на третий день после заселения выкорчевала искусственный настил, еще не зная, где купить светлый туф. Стена с портретом сейчас была окрашена в осень, стена напротив – в черный, и за ним был похоронен Храм. Огромный, величественный и совершенно здесь невозможный.
– За день до побега вы вывели меня из дома на долгую прогулку. Я не понимала, почему вы проговариваете все то, что я вижу вокруг, зачем? И ночной Храм. Свет, исходящий из самого его нутра, заставлял вибрировать каждую расщелину – окна, двери, трещины – все здание, необъятное, словно выброшенное на берег морское чудовище, парило над высушенной землей. Не нужно было быть верующим, чтобы поверить – его не мог создать человек. А кто? Я все еще не знаю. Но уверена, другой гений, оставшийся в карьере, совершенно определенно когда-то жил вне его стен.