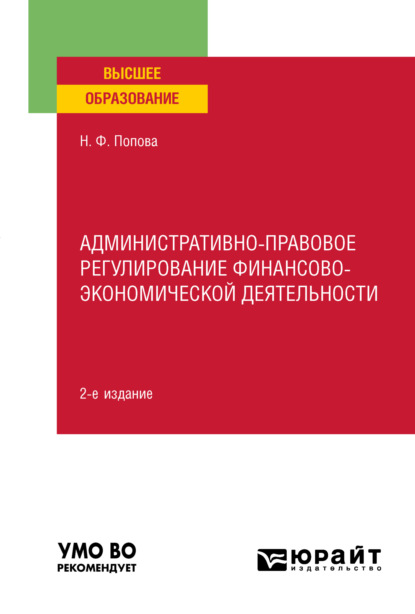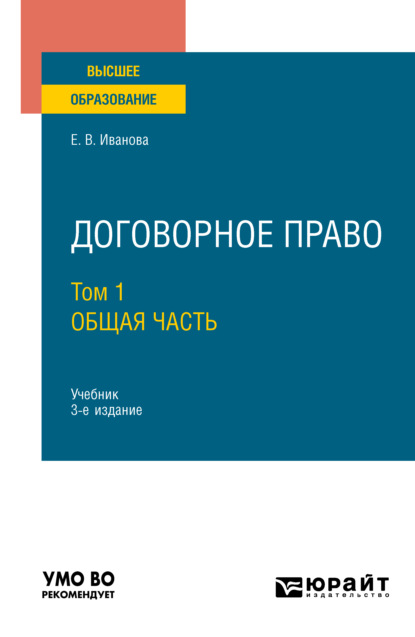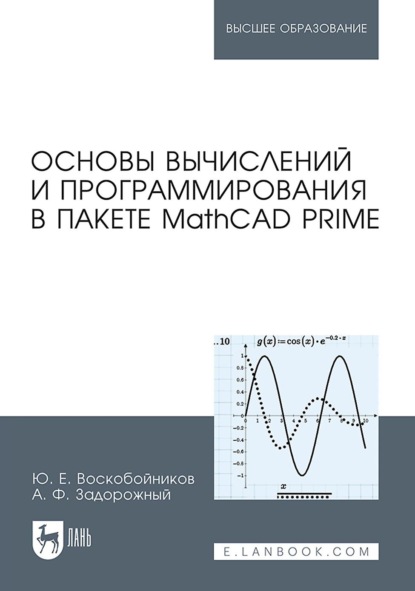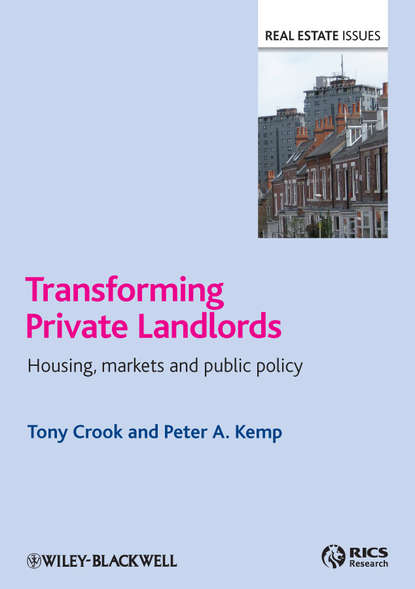Noli me tangere

- -
- 100%
- +
О следе, что он успел оставить в этом мире, мне рассказали на семинарах по истории искусств. Это лицо я бы узнала из тысячи, в любых его воплощениях. Там, дома, на территории, где в этом мире мог быть парк с деревьями, клумбами и скамейками, под открытым небом раскинулся музей скульптур.
– Однажды, – я посмотрела на портрет скульптора, – ты поймал меня за тем, что я пронумеровывала каменных красавиц. Но вместо того, чтобы ругать меня за шалость, ты подвел меня к первой из высеченных здесь статуй и сам, своей рукой выскреб номер на ее платье. Так за неделю мы пересчитали каждую из них, это был мой первый урок по теории искусства, и, знаешь… хотя, нет, ты вряд ли знаешь это. За двести тысяч дней ты в гордом одиночестве прошел тот путь, что проходили в этом мире миллионы творцов с оглядкой друг на друга. И обогнал их.
В темной аудитории менялись слайды, звучал скучный голос лектора, как вдруг – для других этот момент мог ничего не значить, но не для меня – на экране появилось знакомое, даже, нет, не так, близкое, родное, высеченное в мраморе лицо. В этот миг я впервые за много лет почувствовала облегчение: вы существуете! Вот оно, доказательство существования одного из тех, с кем я провела первые девять лет своей жизни, оно было прямо передо мной! Он есть, жил, он оставил свой отпечаток в мировом искусстве, он… И затем, почти сразу меня накрыло другое, страшное подозрение – впервые я по-настоящему усомнилась в реальности моих воспоминаний. Именно после той лекции я начала поиски следов о каждом из вас в этом мире.
– До пятнадцати лет я думала, что вся моя жизнь здесь – ваш план. Что это испытание, проверка, ведь все вы попали в Убежище – из высеченных на черном камне названий моего дома я выбрала для себя это – появились в нем из внешнего мира. И никто, насколько мне было известно, никогда не покидал его. А меня вы изгнали. Осознание этого пришло ко мне внезапно и с тех пор я отравлена вопросом – за что? Что столь ужасного сделал ребенок, чтобы выгнать его, лишить семьи?
Я сидела у портрета одной из семей, коих там было, включая нас с мамой и бабушкой, не больше тридцати. Остальные жили группами, как правитель и его свита, парами, как любовники, или принадлежали только себе. Все эти связи я пыталась осознать спустя годы, изучая детские воспоминания, перенесенные красками на холсты. По ним я пыталась увидеть в вас не мифы, а людей.
Портреты один за другим почти бесшумно падали лицами в пол.
– А как меня ругали за разговоры с тобой, мой истерзанный безымянный друг, – никто не знал его истории, и я дала свое детское слово молчать обо всем, что слышала от тебя на крышах.
Сделав несколько глубоких глотков, я отняла ладонь от замысловатого рисунка глубоких шрамов на теле мужчины с очередной картины. Часть из них – моя фантазия. Не глубина или количество, нет, но я попыталась упорядочить хаос из линий, что рассекали его кожу, привести их в символическое изображение той боли, что испытал их носитель.
– Десять лет я работала и жила только для того, чтобы найти вас, – не рассчитав силы, я пнула ближайший холст так, что, отлетев, он перевернул еще три. Нет, пусть валяются, я и так во всех подробностях помню, кто смотрел на меня с них. Кажется, меня мутит, нужно подняться, а вы – спите.
– Хотите послушать сказку?
Но ответа не последовало.
– Жила-была на свете девочка и жила она в маленьком мире, где правили взрослые. В том мире знали о смене времен года, но почему-то не удивлялись тому, что сменяются они глубоко снаружи, далеко-далеко за пределами каменной чаши. Звучит не слишком весело, но девочка была счастлива, ее все любили, и у нее даже была подруга. Такая же маленькая девочка, как и наша героиня. Подруга жила в башне и почти не выходила на улицу, в башне из теплого камня.
Снова лежа, я гладила мягкий бархатный пол того же цвета, что и песок, по которому мы ходили дома.
– Затворничество не было преградой, у нас была фантазия, а любимая игра – придумывать, кем мы станем, когда вырастем. И с кем мы будем. Ты мечтала о скульпторе, а я… Мы играли в башне, но я не могу вспомнить, почему ни разу на крышах – на крышах, что соединил мостами твой отец. Возможно, оберегая тебя, он делил нежность и заботу о тебе со мной, и учил меня своему певучему языку, волшебному… Как и его тепло, запах…
Так пахнут старинные легенды о джиннах и принцессах.
– Ты часто болела, такая тихая, что там, в доме самых разных детей, я не смогла найти тебе замену. Среди грустных и злых маленьких людей. Они не хотели слушать мои сказки, помнишь? Те, что мы читали на разных языках. В книгах, что давала Та, что жила в архивах.
Ее портрет стоял у стены напротив постели. Самая долгая работа в моей жизни.
– Человек… Существо, она… оно… не представляла собой форму, скорее отражение – туманное отражение в стекле в вечернем сумраке. Слишком длинная шея, слишком бледная, неестественно черные волосы – неестественное все в ней… Курила и… в архивах, среди свитков и гигантских книг, по моей ли воле я находила истории каждого из них, причины и следствия – почему я забыла?
Куда делся виски? Шаря руками, я столкнулась с бутылкой и, больше пролив, чем выпив, задыхаясь, прикрыла ладонью глаза, слишком быстро стали мелькать отблески ламп на потолке. По памяти найдя ногой выключатель, я остановила их безумный танец.
– Ее кожа переливалась как молочные опалы. И голос, звучащий изнутри тебя, а не снаружи. Я все еще слышу эти голоса, но не помню. Почему в твоих архивах не было ни одной настоящей книги? Не о жизни, а выдуманной, нормальной книги? Нормальные люди касаются земли… Только его свитков не было на полках, его история была на маяке.
Она же рассказывала, что, если знать, куда ехать, найти убежище может любой. Почему я не помню?! Почему в архиве не было ни единой карты? Откуда появились мама и бабушка?
– Странно, в детстве ее неестественно длинная шея казалась вполне нормальной, – идеальный профиль ударился о пол. И следом – дама с балкона. Однажды, тогда… я уже осознавала время, но думала, что та грустная дама – это кукла. На моих глазах она ни разу не уходила сама, просто пропадала, когда зажигались фонари. Но однажды ее холеная рука дернулась – в легком, едва заметном призывном жесте, и, ослушавшись заветов мамы, я забежала по лестнице и заглянула в приоткрытую дверь.
– В нашем доме вся обстановка была проста, пол, занавески, мебель… Заглянув за ту дверь, я узнала другой мир – прекрасный, тонкий, волшебный. Ты показывала мне огненные камни и говорила, что так выглядит солнце, а в синих – искрилось море, таинственное и такое прекрасное! И черные, что напоминали тебе звезды и грозы… И в темных комнатах… со свечами…
Мысль бежала быстрее уставшего языка.
Я не знала до побега, что мир так огромен, а после – зачем и кому было нужно, чтобы я увидела этот огромный мир. Я могла быть счастливой только там, в окружении разряженных безумцев, не понимающих языков друг друга, защищенных камнем и лесом без дорог. И рядом с человеком с самыми волшебными глазами.
– Я извлекала вас из памяти, чтобы не забыть, слышите?
Собравшись с последними силами, я закричала.
– Хватит молчать!
В стену застучали.
Плевать! Дать волю голосу было так приятно!
Бутылка сияла пустотой. В конечном счете, погром не принес мне ничего кроме злости и разочарования.
– Хотела бы я иметь силы сжечь тебя, – вползая на кровать, я запуталась в простынях и чуть было не повредила холст ладонью, но в последний момент извернулась и не больно ударилась плечом о подрамник, распластавшись подле картины.
– Наверное, так чувствуют себя наркоманы без дозы – смогу ли я перестать тебя рисовать, имея под рукой все инструменты? Шесть тысяч дней – значительный стаж. Скульптору было мало почти двухсот.
И я закрыла глаза. Сколько я выпила? Последнее мое падение – уснуть, обнимая его портрет… Кажется, я задремала. Чернота в окне, а следом и разбросанные по полу холсты, стены пол – все вокруг завибрировало. В сопровождении неясного гула мелкой дрожью затанцевала окружающая меня геометрия, а затем, будто лопнув, пропали границы предметов.
«Я найду тебя, слышишь? Я найду тебя, слышишь? Я найду тебя».
И я открыла глаза.
Прозрачная змейка осторожно приближалась к моим рукам. На ее коже переливались отражения спящих домов, золотые пятна фонарей тонули в пурпурно-графитовом море слишком низко висящих облаков – я лежала на песке недалеко от столь хорошо знакомой мне дороги. Приподнявшись, я заглянула в темную гладь огибающего меня потока воды: все еще взрослая, но одетая в платье, что было на мне в день побега.
Никогда раньше во сне я не оказывалась вне стен нашей кухни. Второй этаж, мамин будуар, и даже моя собственная спальня – я не имела права попасть ни в одну из этих комнат, не то, что наружу. А теперь я стояла рядом с небольшим двухэтажным домом, одним из самых скромных в карьере; построенный из того же теплого камня, что и любое здание вокруг, такой же безлюдный, каким я его изображала на моих картинах, с единственным горящим окном на первом этаже.
Если я продолжу медлить, все снова может пропасть. Уже во дворе вода догнала меня и вновь обогнула, продолжив свой путь дальше, к центру карьера. Мы обе были здесь лишними. За девять проведенных в убежище лет я не помнила ни единой капли дождя, упавшей на бесплодную землю, ни единого источника воды, кроме того, что был в Храме. За тысячи дней после я ни разу не была так свободна в передвижении. С противоположной стороны дома у стены должна быть лестница, ведущая на крышу, там я смогу увидеть улицу сверху, а может и пробежать дальше, перебраться, как раньше, по мостам на другие дома и так – до самого Храма и обратно!
Да, лесенка была на месте, вот только двадцать лет назад она казалась шире, внушительнее. И, сделав всего шаг по направлению к крышам, в кромешной тьме, я столкнулась с невидимой преградой.
– Черт, простите! Откуда…?
Как и любой ребенок снаружи, я носилась повсюду, не обращая внимания на условности и границы, а перила, установленные на всех лестницах и мостах, должны были ограждать меня от падения. Но теперь они кого-то заслоняли, кого-то, спрятавшегося за их тенью, неразличимого в свете газовых фонарей, обрамлявших дорогу за моим домом. Через несколько секунд мои глаза привыкли к скудному освещению, и я узнала в стражнике безымянного старика с моих картин. В оборванных одеждах, еще более дряхлый, чем был почти двадцать лет назад, тот, кого сторонились, а, может быть, даже боялись местные жители, махал перед моим лицом своей пугающе-сухой рукой:
– Как вы сюда попали? – сделав шаг назад, я огляделась. На дороге стоял другой столь же отталкивающего вида старик, а в тени соседнего дома мелькнул огонек сигареты или одной из тех грубо сработанных самокруток, что они не выпускали изо рта.
– В дом, иди в дом, – почти забытый язык вывел меня из оцепенения.
Я знала, что они – лишь видение, их решительность совершенно меня не пугала, но появление в ее сне иных людей было слишком необычным, и я послушно направилась в дом. Четыре ступени в темноте, затем еще три шага прямо и я ступила в коридор, что соединял две комнаты, мамину и бабушкину, но пространство вокруг них было наполнено столь густым туманом, что не оставалось никакого иного выбора, как шагнуть в единственную освещенную дверь, ту, что вела на кухню.
– Чаю, милая?
Шесть с половиной тысяч дней остались позади, а на столе дымился все тот же чайник. Вопрос прозвучал так буднично и непринужденно, будто я вновь стала девочкой, что спешила поскорее уснуть и рассказать бабушке за чашкой горячего чая, какой счастливой она была, как много новых друзей у нее появилось – детей того же возраста, что и она, с которыми можно было играть и бегать по зеленой траве. Тот ребенок не мучился днями и ночами в попытках вспомнить, как выглядели его мама и бабушка, не тратил времени на поиски зацепок в отражении зеркал, не ведал, как скоро его бросят.
– Есть что-нибудь покрепче?
Как же нелепо прозвучала эта фраза! Не зная, как скрыть растерянность и злость, я спрятала руки в карманы детского платья и нашла в одном из них почти полную пачку сигарет. Как взрослая, теперь я могла позволить себе успокоить эмоции дымом. И я закурила.
Бабушка усмехнулась и подтолкнула ко мне блюдце в качестве пепельницы. Но, даже понимая, насколько глупым было мое поведение, я продолжала курить, пока она с любопытством разглядывала меня в ответ. Сейчас я узнавала каждую линию ее лица, каждую морщинку: сухая кожа, пепел в волосах, все те же проницательные, глубоко посаженные глаза цвета… нет, не верно, они имели не один оттенок: зеленые, с вкраплениями алой краски, сверкающие уже не так ярко, будто потускневшие гелиотропы – все те черты, что я не могла вспомнить годами, пока не забывала других, чужих мне людей, пока этот, пятый от дальнего склона дом всегда оставался на моих картинах пустым.
– Нам бы пришлось посетить кабак, а рыжебородый в это время уже не спит, – пока она произносила эти слова, уголки ее губ несколько раз судорожно дернулись.
– А где мама?
Я начала вспоминать. Этот вопрос я задавала часто, и дома, и здесь во снах. «Скоро, она скоро вернется, давай спать». Ей было… Когда ради сказки на ночь я ждала ее в кровати, ей было меньше дней, чем мне сейчас.
На лице бабушки появилось знакомое выражение. Губы чуть искривились – как и раньше, ее недовольство читалось в этом мимолетном неконтролируемом движении – а помутневшие глаза обратились к окну.
– Гуляет, у нас вечер, – бабушка усмехнулась и обратила взгляд на меня. Пять тысяч дней назад я бы уже взахлеб рассказывала обо всем, что произошло в академии, а она бы, не перебивая, разливала ароматный чай. В моих воспоминаниях сны имели запахи, но, увы, глубоко вдохнув дым сейчас, я ничего не почувствовала.
– С кем? – я затянулась еще раз, и кончик сигареты, обнажившись, заиграл искрам.
Вечером перед уходом ее одежда благоухала духами, а по утрам сброшенное рядом с кроватью платье сладко пахло табаком, хотя сигарет в ее руках я никогда не видела.
– Ты их не вспомнишь, с друзьями, – бабушка сидела неподвижно, даже слишком неподвижно, позволяя себе только легкую дрожь в руках и едва уловимые, будто судорога, движения мышц лица.
– Я помню всех, – произнося это, я положила дымящуюся сигарету в левую ладонь и сжала кулак. Боли не было.
Так просто осознать себя плохим человеком, когда, видя смущение другого, ты не можешь и не желаешь позволить себе остановиться и больше его не мучить.
– Да что ты можешь помнить! Зимой…
Но я не дала ей договорить.
– Зимы не было. Времена года не сменялись, я помню, – я помнила так же и то, что она могла выбросить меня с кухни в любой момент, – зачем ты смотришь на улицу? Кого мы ждем?
Огромные окна были зашторены, я не сдержалась и отодвинула одну из портьер: там, где должны были стоять фонари, беспечно прогуливаться люди, сиять живые облака, вместо всего этого царила тьма, словно за минуту перед нашим домом воздвигли глухую стену. На деревянной раме привычно висели старинные наручные часы, в них никогда не было надобности, и, сколько я себя помнила, они никогда не ходили. Но сейчас, в образовавшейся тишине, их мерный ход звучал громче церковных колоколов.
– Прекрати возвращаться в прошлое, тебя здесь никто не ждет.
Не поворачивая головы, бабушка следила за мной только глазами.
– И ты вернулась, чтобы мне об этом напомнить? – мечтая броситься в ее объятия, я продолжала изливать яд обиды, не в силах справиться одновременно со злостью и со стыдом за свои слова.
– Милая, это место выдумано, реальны лишь люди, что рядом. Расскажи мне о своих друзьях. Ты нашла семью? У тебя есть дети?
– Я думала… я надеялась, что вы меня ждете…
Рисунок морщин на ее лице изменился, подавшись вперед, бабушка оперлась руками о край стола, и пространство рядом, словно потянувшись за ней, на мгновение исказилось.
– Прекрати. Хотя бы ради меня, не возвращайся, пожалей старого человека. Я провела десятки ночей во снах той сумасшедшей, чтобы только обменять… чтобы у тебя появился шанс на нормальную жизнь, на выбор. А он… он найдет замену, рано или поздно.
Значит, я вернулась лишь за тем, чтобы мне повторили все то, что я уже прочла ранее в здесь же оставленном послании. Без аргументов, без объяснений, почему моим выбором не может стать возвращение.
– Ты передавала мои письма? – спросила я, когда увидела, что стена позади нее начала отдаляться.
На лицо бабушки вернулась улыбка:
– Да, мы так радовались твоим успехам! Нужно ли больше…
– Оба письма? – прервала я ее ложь.
Устало моргнув, бабушка едва заметно качнула головой, а мебель и посуда вокруг, будто им тоже не терпелось избавиться от меня, завибрировали. Мое время заканчивалось.
– Просто ответь на три вопроса, и я уйду.
Она кивнула и снова покосилась на окно.
– Почему я не могла вспомнить ваших лиц? Это твоя работа? – с предметов сползали краски, – Почему ты пропала? Что должно произойти?
Между нами была всего пара шагов, но, казалось, я смотрела на нее сквозь пыльное окно соседнего дома.
– Четыре.
– Что?
– Вопроса получилось четыре, – до меня едва долетал ее шепот.
– Если ты передавала мои письма, то почему никто не писал в ответ?
Внезапно нас ослепила яркая вспышка. Я открыла глаза первой, бабушкины веки дрожали.
– Не уходи так! Иначе… я сожгу этот дом! И мне ничто не помешает выбраться наружу! Слышишь?! – я попыталась схватить ускользающий мираж, но в следующий момент сбивающая с ног волна света заставила меня обеими руками заслонить лицо.
Секунда – и давящий поток схлынул. Я убрала руки и поняла, что лежу на постели, в своей квартире, на тех же мятых простынях, что покидала лишь в своей голове. Следующая волна оказалась мягче, будто свет прилетел издалека. Он больше не убегал, теперь мы изучали друг на друга.
Меж севера полуношник
– так выходило мое окно. Оно смотрело туда, где все это время был маяк. Когда я искала квартиру, самый верхний этаж и именно этот вид на дальний, не закрытый другими высотками лес стали решающими в моем выборе. Свет летел снизу вверх, нелегко же ему пришлось: продираться сквозь густые кроны деревьев, предрассветный туман и расстояние в…
– Только не гасни, прошу, – ошеломленная, я бросилась к шкафу.
Пренебрегая всеми законами физики, сияющий поток изливался на пол через подоконник, а затем стекал к противоположной от окна стене, освещая царивший вокруг беспорядок. С десяток вешалок, полка с одеждой – еще вчера остальное пространство в шкафу занимали теперь раскиданные по комнате полотна и коробки, в одной из которых хранились карты. Обычные бумажные карты, испещренными линиями и надписями, что я оставляла со школы, с момента, когда узнала, что такое карты и о том, что мир снаружи огромен. Чуть позже я совершила и другое открытие: здесь ты был свободен в выборе места для жизни, не оно выбирало тебя, а наоборот. В детстве я читала истории жителей карьера, в которых маяк находил их в разных концах света и они, откликнувшись на его призыв, обретали в карьере новый дом и покой. Был ли у них выбор? Тогда я была слишком мала для подобных вопросов.
Рассвет занимался. А на полу, в не глубокой луже света, боясь потратить дарованное время зря, я по картам сверялась с гаснущим лучом, делая пометки и оставляя багровые полосы испачканным в краске запястьем. Взявшись за карандаш, я было подумала, что порезалась, учиняя ночной погром, но запах, исходивший от пятна на ладони, выдал собою масло. На лицах Элая и Смотрителя зияли темные кровоподтеки, краска, что я содрала с губ Элая, испортила любимый портрет, застыв глубокой раной на левой щеке человека с треугольными глазами. Смотрителя того маяка, что гас от минуты к минуте, пока я пыталась понять, в каком направлении держать путь.
– Над нами должен быть… – Смотритель грустно улыбнулся, – сколько времени прошло! Когда-нибудь ты увидишь звезды… пообещай рассказать им, как счастлива ты теперь, и, где бы ты ни была, я тебя услышу.
Но я так и не узнала, какие звезды светили над Убежищем, когда ты пришел туда.
– Ни единой зацепки. Почему ты боялся, что я найду вас?
Небо раскалилось оранжевым, звезды потускнели, и от луча осталась лишь призрачная паутина, тонкая сеть бледных полос на моей коже. Я так и не оделась, но даже перед открытым окном не чувствовала холода.
– Мог ли тебя видеть кто-либо еще? Мои неспящие соседи? – нет, я же знала, что маяк горит только для тех, кому он предназначен, – собраться, найти вокзал и в путь.
Я оттолкнулась от окна и едва не споткнулась: лампа, бутылка, перевернутые картины на полу – в столь малом помещении царил совсем не творческий погром.
– Вокзал! – и я кинулась на поиски телефона.
Пропущенный вызов и пара сообщений. За полчаса я нашла станцию, с которой следовало пересесть на автобус, а дальше… До первого поезда оставалось три часа:
– Собраться и в путь, – но мое отражение вступило в спор с оригиналом.
Могла ли кровь во мне поменять цвет или остановить свой поток? Способен ли был кто-то за одну ночь переодеть меня из смуглой кожи в оболочку утопленника, а темные волосы превратить в болотную тину? Цвета будто заблудились на моем лице: под глазами провалами лежали густые тени, а вокруг зрачков, еще вчера имевших едва заметные границы с радужкой, появились зеленые отблески.
– Нет. не в подобном виде.
Поток теплой воды безвозвратно уносил грязь с моего тела, но не сумел справиться с беспорядком в моей голове. Треть моей жизни прошла в неуверенности, что прошлое мне не приснилось; теперь же, наконец-то получив ответы, я сомневалась в настоящем. Лишь одно я знала точно: здесь, в этом мире, смерть была однозначна, в ней отсутствовала неясность, и эта мысль меня успокоила.
– Я жива и я знаю, где они прячутся. На пути в этот мир я три дня блуждала в лесу. Чтобы попасть обратно, нужно просто найти лес и дорогу, что ведет к камню.
Ту, на которую я даже не ступала.
Вода еще стекала с моих волос, когда в небольшой чемодан беспорядочно полетели вещи: одежда, карты, провода, кисти – все самое необходимое.
– Но только лишь здесь, – и я остановилась, ведь в том мире отсутствовало само понятие «необходимости».
Четыреста дней назад в глубину самой верхней полки были отправлены два плотных свертка. Когда-то в отчаянии преданные забвению, а теперь извлеченные и бережно развернутые на постели, они замерли в ожидании приговора. Подобные глупости никто не берет с собой в дальний путь, но они составляли мое главное сокровище. Прошедшая со мною приют, кожаная истертая временем сумка, на дне которой после случая с той, первой девочкой, под подклад была спрятана фибула – подарок танцовщиц, и там же – нож – дар человека со шрамами. Заклинания, что оберегали его от злых чар – так в детстве я думала об изъянах моего друга, пока спустя много лет не осознала их реальную природу.
Мы познакомились, когда бегая по крышам, я пыталась догнать накрывающую их тень. Грустный человек сидел в одиночестве и, казалось, молился.
– Почему ты молишься не в Храме? – полюбопытствовала я тогда.
Но больше того меня удивило место нашей встречи, ведь днем все крыши убежища были только моими. Изредка по утрам я находила тут или там следы ночных посетителей, в спешке забытые вещи; то была еще одна из моих детских забав – придумывание историй о взрослых и их тайнах, которые они так плохо умели скрывать.
– Здесь нет моих Богов.
Позже я повторю свой вопрос, а в ответ новый друг поведает мне о чудовищах, что обитают за кромкой оберегающих нас каменных стен. Но в тот день я узнала, что говорил он на языке мне совершенно не ведомом.
– Откуда ты пришел? Ты меня понимаешь?
Но человек лишь махнул головой и вернулся к своему занятию. Я же не отступала – он был неразгаданной тайной, новым сокровищем, найденным на крышах; я жила всего две тысячи дней, он же выглядел так, словно пешком прошел две тысячи лет. Рисуя на песке или мелом на камне, указывая руками на все вокруг, я называла предметы на языке бабушки и еще трех-пяти, на которых говорили другие жители, и терпеливо ждала. Прошло немало дней, прежде чем грустный человек указал мне на самый дальний от Храма дом, один из немногих, а их можно было пересчитать по пальцам, что не был охвачен сетью моих ступенек и мостов. Он показал на тень, а затем сложил руки у головы, изобразив сон. На следующий день, как только свет начал покидать убежище, я бросилась к его странному жилищу, у стены которого, той, что смотрела на скалы, была приставлена деревянная лестница.
Так появился на секрет, хранимый мною ото всех, даже от Смотрителя. Позже мне открылось, что только советы человека со шрамами и то, чему он меня научил, не единожды помогали выжить ребенку, выброшенному в незнакомый мир.