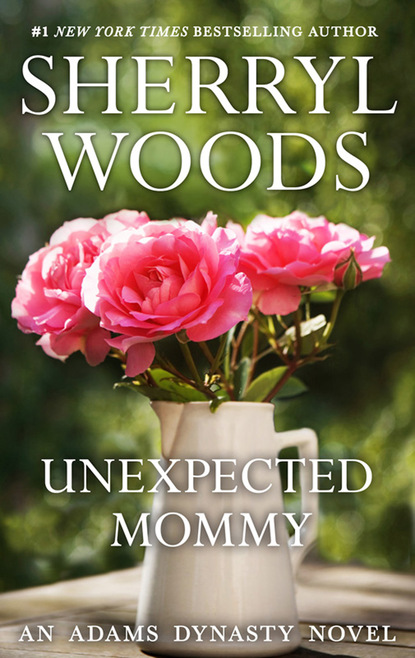Голос в тишине

- -
- 100%
- +

Пролог
Падение в Тишину.
Тогда.
Ветер не дул – он ревел. Сплошной, оглушительный гул, врывающийся в каждую щель шлема, вытесняющий все мысли, кроме одной:
Держи. Контроль. Лети.
Асфальт под колёсами его «Тени» был не дорогой, а тёмной, блестящей рекой, струящейся под ним с бешеной скоростью.
Сто двадцать…
Сто тридцать…
Стрелка тахометра плясала у красной зоны. Марк чувствовал вибрацию мотора каждой клеткой тела – от кончиков пальцев в перчатках, сжимающих руль с инстинктивной точностью, до пяток, упёртых в подножки. Это был не просто звук; это был голос зверя, слившийся с его собственным сердцебиением в первобытный ритм скорости.
Вот она. Настоящая жизнь.
Мир за бортом расплывался в калейдоскопе мелькающих деревьев, синего неба, отблесков солнца на кузове машины, которую он только что обошёл на вираже.
Он видел всё: мельчайшую трещинку на асфальте впереди, тень облака, скользящую по полю, выражение сосредоточенной злости в зеркале заднего вида гонщика, которого он оставил позади. Зрение было его главным оружием, сканирующим трассу, предвосхищающим опасность, находящим доли миллиметра для идеальной траектории. Вираж. Плавно, как дыхание. Перенос веса тела. Лёгкое касание коленом – больше привычка, чем необходимость на этой скорости.
«Тень» послушно закладывала крен.
Идеально.
На губах Марка появилась дикая, ликующая улыбка под забралом.
Свобода.
Чистая, неразбавленная, выжженная в каждом нерве адреналином. Он был не человеком на машине. Он был центром этой бури скорости и силы. Мир сузился до полосы асфальта, рева мотора и бешеного полета.
Сейчас.
Щелчок. Не громкий. Не драматичный. Как будто переключили тумблер где-то в недрах вселенной.
Что это?
Его взгляд, только что сканировавший горизонт, инстинктивно метнулся вниз, к переднему колесу.
Микроскопическая неровность? Камешек?
Неважно. За долю секунды, которую мозг ещё не успел обработать, «Тень» дёрнулась. Незначительно. Почти незаметно на такой скорости. Но достаточно…
Контроль – эта хрустальная, абсолютная власть над машиной и траекторией – рассыпался как карточный домик. Руль вырвался из рук, став живым, бешеным существом. Заднее колесо потеряло сцепление. Чувство полёта сменилось ощущением падения. Не физического ещё, но неминуемого. Падения из царства бога обратно в прах смертного.
Удар. Не один. Каскад.
Первый – боком о борт грузовика, зазевавшегося на обочине. Грохот разорвал мир. Пластик шлема треснул. Его тело, невесомое мгновение назад, с чудовищной силой швырнуло вперёд, прижав к бензобаку, потом – в сторону. Сталь, асфальт, искры.
Второй удар – колесо? Бампер? пришёлся по ногам. Боль – острая, белая, мгновенно заполнившая все существо.
Третий удар – голова о дорогу. Сквозь треснувшее забрало он увидел его. Асфальт. Не фон. Не дорога. Лицо. Тёмное, шершавое, неумолимо несущейся ему навстречу.Он видел каждую песчинку, каждый крошечный камешек. Видел отражение своего искажённого ужасом лица в мутной лужице масла. Видел, как трещина на асфальте разветвляется, как ядовитое дерево, прямо под ним. Это был последний зрительный образ. Четкий. Безжалостный. Врезавшийся в сетчатку навсегда.
Затем – Тишина. Не просто отсутствие звука. Вакуум. Глухой, давящий, всепоглощающий. Рёв мотора – исчез. Визг тормозов – пропал. Собственный крик – заглох, запертый где-то в сдавленной груди. Даже боль на мгновение отступила, оглушённая этим внезапным, абсолютным безмолвием.
Он лежал. Не летел. Не падал. Лежал. Неподвижно. Мир перевернулся. Небо было внизу? Или он вверху?
Небо… Он попытался найти его взглядом. Но было только серое марево. Размытое. Плывущее. Как грязное стекло.
Солнце – тусклое жёлтое пятно без лучей.
Деревья – темные, бесформенные пятна на горизонте. Контуры расплывались, цвета тускнели, сливаясь в грязно-серую муть.
Шлем… Забрало…
Он попытался пошевелиться – волна боли, тошноты, беспомощности захлестнула его. Где его руки? Ноги? Он чувствовал только тяжесть, ледяной холод, проникающий сквозь кожу, и… запахи. Резкие, отвратительные, врывающиеся в ноздри, заменяя зрение.
Запах гари, едкий, удушающий, как будто плавится пластик или резина.
Моя резина?
Запах бензина , резкий, химический, обещающий новый взрыв.
Запах крови. Медный, тёплый, знакомый и чужой одновременно.
Моя кровь.?
Запах Пыли. Сухой, уличной, смешанной с запахом разогретого асфальта и… страха.
Звуки начали возвращаться, пробиваясь сквозь вату тишины, но искажённые, далёкие: Слышался свой собственный стон. Хриплый, чужой, доносящийся из глубины.
Доносилось шипение. Как змея.
Что это? Радиатор? Бензин, капающий на раскалённый металл?
Где-то за серой пеленой доносились голоса. Невнятные, перекрывающие друг друга крики.
Живой?
Скорую!
Мотоциклист!
Звучала сирена. Сначала одна, тонкая, как комариный писк, потом вторая, басистее. Они нарастали, сливаясь в пронзительный, неумолимый вой, который бил по вискам, усиливался, заполняя пустоту, но не принося облегчения.
Он был внутри этого воя. Запертый. Он снова попытался фокусироваться на сером пятне неба.
Оно темнело. Края марева сгущались, наползая на жёлтое пятно солнца, как чернильная клякса на промокашке. Пятна света дрожали, распадались на сотни чёрных точек, плывущих перед глазами. Точки сливались в сплошную, бархатистую тьму. Не ночную. Не уютную. Абсолютную. Пустотную.
Нет. Нет!
Паническая мысль рванулась сквозь боль и тошноту. Он зажмурился изо всех сил. Открыл. Снова зажмурился. Толкнул веки вверх пальцами, не чувствуя прикосновения сквозь перчатки.
Ничего. Только чернота. Густая, непроглядная, бесконечная. Ни проблеска. Ни тени. Ни формы. Рёв мотора, крик тормозов, удар, запахи, вой сирен – все это было где-то снаружи. А внутри… внутри была только эта тишина. Тишина без звука. Тишина без света. Тишина, в которой навсегда остался последний образ – асфальт, несущийся навстречу. И всепоглощающий, леденящий душу вопрос, пробившийся сквозь шок, боль и наступающую тьму:
Я… больше не вижу?
Сирены выли прямо над ухом. Чьи-то руки, грубые, торопливые, трогали его, переворачивали. Боль взорвалась новым адским фейерверком. Но это было ничто по сравнению с холодной, бездонной пропастью, открывшейся внутри. Пропастью, где раньше был мир. Где была скорость. Где была свобода. Теперь там осталась только тишина. И вечный вопрос, висящий в пустоте:
Что теперь?
Тьма сомкнулась окончательно. Не от боли. От безнадёжности. Он провалился в неё, унося с собой рёв мотора, ощущение полёта и последний, чёткий кадр асфальта.
Глава 1. Мир от и давит. Марк.
Последнее, что я видел, – это асфальт. Не тот привычный, серый, мелькающий под колесом стремительной радугой, а какой-то бешеный, неестественно близкий, несущийся мне навстречу всей своей шершавой, мёртвой массой. Он заполнил собой всё: визг тормозов, длинный и бесполезный, оглушительный лязг рвущегося металла и мой собственный крик, который я услышал будто со стороны, из другого измерения.
А потом – тишина. И темнота.
Не темнота, как ночью в лесу, где глаза постепенно привыкают и начинают различать образ деревьев. Не темнота с закрытыми глазами, за которой скрывается свет. Это была иная материя. Густая, бархатная, абсолютная. Как будто меня заживо залили чёрным бетоном. Я перестал чувствовать тело. Не было ни боли, ни холода, ни тепла. Только эта всепоглощающая чернота и звенящая тишина.
«Я умер», – пронеслось в голове единственной внятной мыслью. И это было даже не страшно. Скорее, обречённо.
Потом тишину начали рвать звуки. Сначала далекие, приглушенные, будто через вату. – Жив! Троих тут! Мужик, ты как? Мужик! – Не тряси его, голова! – Скорая уже тут, держись!
Чужие голоса. Руки, которые тащили меня за плечи. Резкая, пронзающая боль в боку, от которой я застонал, и этот звук моего собственного голоса вернул меня немного в реальность. Я не умер. Но что-то было не так. Что-то главное.
Меня грузили на носилки. Мир раскачивался. Я пытался открыть глаза. Я был уверен, что открываю их. Но ничего не менялось. Та же непроглядная тьма.
– Глаза… – прохрипел я, и собственный голос показался мне чужим, разбитым. – Я глаза открыть не могу. Темно.
Чей-то молодой, напряжённый голос рядов мне в ухо:
– Не открываются, товарищ? Осколком, наверное, залило. Ничего, в больнице отмоют. Главное – живой.
Он не понял. Я не о том. Я не мог донести мысль. Язык заплетался, сознание уплывало обратно в черноту.
Очнулся я от движения и мерного гудения. Скорая. Запах антисептика, крови и чего-то едкого, горючего. Я лежал на жёстких носилках, и каждая кочка отдавалась тупым эхом во всем теле.
– Доктор, он в сознании, – сказал тот же молодой голос. Ко мне наклонились. Пахло духами и мятной жвачкой.
– Марк? Меня зовут Анна, я врач. Вы в машине скорой помощи. Вы попали в аварию. У вас травма головы, вероятно, сотрясение, перелом рёбер. Потерпите немного, мы уже подъезжаем.
Её голос был спокойным, профессиональным. Он держался на плаву в этом море неведения.
– Темно, – снова выдавил я единственное, что имело значение.
– У вас заклеены глаза, – ответила она без паузы. – Сильный ожог роговицы от пыли и осколков. Мы обработали, теперь повязка. Так нужно.
Облегчение, сладкое и обманчивое, волной накатило на меня. Заклеены. Значит, это временно. Значит, отмоют. Скоро снимут, и я снова увижу свет, лица, небо.
В приёмном отделении был ад. Суета, крики, скрип каталок, плач. Меня снова тащили, перекладывали, кто-то резал мою кожаную куртку, которую я так любил. Руки были чужими, безжалостными. Я цеплялся за голос врача Анны, как за якорь.
– Анна? Вы здесь? – Я здесь, Марк. Всё хорошо.
Потом был кабинет, где делали снимки. Холодный аппарат, команды: «Не дышать!». И наконец, относительная тишина палаты. Меня уложили на койку. Боль утихла до ноющей, фоновой, благодаря уколу.
Я лежал и пытался разглядеть хоть что-то сквозь повязку. Ловил блики, тени, любые признаки света. Ничего. Абсолютный ноль. Только изредка в глазах вспыхивали какие-то фосфеновые всполохи, обманывая мозг.
Дверь открылась.
– Ну что, герой наш? – Это был новый, старческий, хриплый голос. Заведующий, наверное.
– Привезли ваши снимки, Марк.
Я молчал, боясь услышать продолжение.
– С рёбрами разберёмся. Сотрясение – полежим. А вот с глазами… – он сделал паузу, и эта пауза была страшнеё любого крика. – Там не только ожог. Был удар огромной силы. Отслойка сетчатки на оба глаза. Очень серьезная.
В груди всё сжалось в ледяной ком.
– Это… лечится? – прошептал я.
– Операции возможны, – голос звучал уклончиво. – Шансы есть. Но нужно время, чтобы снять отёк, посмотреть в динамике. Настраивайтесь на длительное лечение.
Он что-то ещё говорил про прогнозы, про процент успеха, но я уже не слышал. Слова «отслойка сетчатки» и «шансы есть» гуляли в моей голове, сталкиваясь друг с другом. Один кусок мозга цеплялся за «шансы». Другой, больший, уже понимал. Уже знал.
Врач ушёл. Я остался один. В тишине. В темноте. Я медленно поднял руку. Пальцы дрожали. Я дотронулся до толстого слоя марли и ваты на своих глазах. Потом, с силой, вдавил пальцы в веки. Ничего. Ни блика. Ни проблеска. Ни малейшего намёка на свет. Только больное, давящее ощущение изнутри.
И тогда до меня окончательно дошло. Это не повязка. Это – я. Я больше не Марк, который мчится навстречу ветру. Я – это вот этот кусок плоти на больничной койке, заточенный в чёрный, безразмерный ящик.
С горла сорвался стон. Нечеловеческий, животный. Я забился в подушку, пытаясь заглушить его, но он рвался наружу, превращаясь в рыдания. Я плакал как ребёнок, бессильный и уничтоженный. Я бил кулаком по матрацу, по собственной ноге, по чему попало, пока не прибежала медсестра и не сделала очередной укол.
Игла вошла в мышцу легко, почти безболезненно. Действовало лекарство быстро. Мир начал уплывать, терять очертания, и без того призрачные. Но прежде чем сознание окончательно отключилось, я дал себе клятву. Всего одну.
Я буду ненавидеть. Этот мир. Эту судьбу. Эту темноту. Всё. Это было единственное, что у меня осталось.
Глава 2. Крепость тьмы.
Марк.
Меня переводили в «Реабилитационный центр «Возрождение»». Идиотское название. Звучало так, будто здесь из пепла восстают фениксы, а не сдают на склад сломанные, бракованные человеческие тела.
Дорога была одним сплошным тактильным кошмаром. Меня пересадили из больничной койки в каталку, потом в машину, потом снова в каталку. Каждый переезд – это чужие руки, хватающие тебя под мышки, бесцеремонные и сильные. Каждый новый запах – от больничной стерильности к какому-то цветочному ароматизатору в машине скорой, а затем – к запаху старого линолеума, тушёной капусты и отчаяния. Да, отчаяние имеет запах. Это смесь пота, лекарств и пыли.
– Марк, мы на месте, – сказал чей-то новый, слишком бодрый голос. Мужской. Молодой. – Меня зовут Вадим, я буду вашим помощником на первых порах.
Я промолчал. Мне было плевать, как его зовут.
– Сейчас я проведу вас в вашу палату. Это на втором этаже.
Он взял мою руку и положил её себе на локоть. Я резко дёрнул её обратно.
– Я не ребенок. И не инвалид.
Вадим вздохнул. В этом вздохе не было раздражения, лишь усталая привычка. Это бесило ещё больше.
– Правила техники безопасности, Марк. Лестница. Здесь много дверей и порогов. Пока вы не ориентируетесь, лучше за руку.
– Ведите. Но не трогайте меня, – проскрипел я.
Он согласился. И пошёл вперёд, громко комментируя каждый шаг. Его голос был моим единственным проводником в этом кромешном аду.
– Впереди дверь, она открывается от себя… Сейчас коридор, сорок шагов прямо… Поворот налево… Лестница. Семь ступенек вверх. Поднимаемся… Ещё семь…
Я шёл, вытянув вперёд руки, как зомби. Каждый шаг давался с трудом. Ноги были ватными, тело – чужим и непослушным. Я ненавидел каждый сантиметр этого пути. Ненавидел Вадима за его спокойствие. Ненавидел себя за эту беспомощность.
Палата оказалась на двоих. Я уловил дыхание другого человека – тяжёлое, ровное, спящее.
– Ваша койка у окна, – сообщил Вадим.
– Какая разница? – огрызнулся я.
Он снова пропустил колкость мимо ушей.
– Туалет – напротив, в конце коридора. Столовая – на первом этапе. Расписание занятий на столике. Оно… э- э- э… напечатано шрифтом Брайля.
Я фыркнул. Шрифт Брайля. Вот умора. Меня готовили к жизни, в которой я буду читать пальцами, пока другие смотрят в глаза.
Вадим ушёл, оставив меня одного. Я стоял посреди комнаты, боясь сделать шаг. Пространство вокруг было враждебным и бесконечно большим. Я медленно, на ощупь, добрался до кровати, сел на край и замер.
Так начались мои дни. Они слились в одно бесконечное, тёмное полотно, расшитое нитками унижений. Каждое утро – ненавистные процедуры. Лечебная физкультура, где я, вспотевший и злой, тыкался во все снаряды. Занятия с психологом, который пытался залезть в мою голову своими дурацкими вопросами: «Что вы чувствуете, Марк?», «Расскажите о своих страхах». Я молчал. Я не собирался делиться с ним своей болью, чтобы он потом записал её в свою толстую папку и пошёл пить кофе.
Самым унизительным была трость. Длинная, складная, белая. Символ моей немощности. Инструктор по ориентированию вкладывал её мне в руку и заставлял шагать по коридору, выстукивая ею путь.
– Ведите тростью плавно, из стороны в сторону, – его голос был монотонным, как гудок будильника.
– Если конец упирается – это препятствие. Если проваливается – это лестница или яма.
Я чувствовал себя слепым щенком. Все вокруг слышали этот стук. Стук калеки. Я ненавидел этот звук. Ненавидел упругую дрожь трости в руке, когда она натыкалась на дверной косяк.
Но больше всего я ненавидел вечера. Когда суета затихала, и я оставался наедине с собой в этой черной коробке. Именно тогда подкрадывались самые тяжёлые мысли. Воспоминания. Рёв мотора. Свист ветра в щели шлема. Искажённое от скорости лицо Сергея, когда мы обгоняли его на трассе. Свобода. Она была так близка, так осязаема в памяти, что я мог почти почувствовать её кожей. А потом открывал глаза – и ничего. Все та же тьма.
Я сидел на своей койке, сжимая руками край матраца, и слушал, как по коридору шаркают чьи-то медленные, неуверенные шаги. Кто-то так же, как и я, учился жить в темноте. Мы были призраками, обречёнными бродить по этому стерильному чистилищу с говорящим названием «Возрождение».
Возрождения не чувствовалось. Я лишь медленно, день за днём, тонул в смоле. И тихая, грустная музыка с пианино была саундтреком к моему утоплению
Глава 3.Разбитая чашка
Олеся.
Последней каплей стала чашка.
Та самая, с синими цветами по краю, которую я купила на блошином рынке ещё в университете. Она пережила три переезда, два потопа от соседей сверху и даже падение с третьей полки. Но не пережила Игоря.
Она разлетелась на тысячи острых осколков с хрустальным звоном, который на секунду заглушил даже гул крови в висках.
Я застыла, глядя на сине-белые черепки, рассыпавшиеся по кухонному полу. Чашка с васильками – та самая, смешная, чуть кривоватая, купленная в дождливый день на развале у старушки, которая уверяла, что это «почти антиквариат».
– Ты специально! – его голос, резкий, как удар ножа, вонзился в тишину кухни. Игорь стоял, сжав кулаки, его дыхание было тяжёлым, как у загнанного зверя.
Я замерла, глядя на осколки на полу. Они лежали там, где он швырнул её об стену, когда я отказалась показать ему переписку с коллегой.
Я медленно подняла глаза от осколков к его лицу. В уголке рта дергался нерв.
– Я просто не хотела показывать телефон, – голос мой звучал странно спокойно, будто это происходило не со мной.
– Врешь! Ты что-то скрываешь! Опять этот твой «коллега»? – Он пнул ногой крупный осколок, и тот, звякнув, улетел под холодильник.
Мои пальцы сами собой потянулись к синяку на запястье – свежему, ещё лиловому. Вчерашний. Когда он вырывал у меня телефон.
– Игорь… – я сделала шаг назад, спиной наткнувшись на край стола.
Его глаза сузились.
– Ты… Ты меня боишься?
Вопрос повис в воздухе, тяжёлый, как запах разлитого чая, впитывающийся в дерево пола.
Я не ответила. Не смогла.
– Все, – он резко развернулся, с грохотом распахнул шкаф, выдернул оттуда куртку. – Когда одумаешься – приползёшь обратно. Как всегда.
Дверь захлопнулась так, что дрогнули стаканы в серванте.
Я опустилась на колени среди осколков. Один вонзился в ладонь – острая, почти облегчающая боль. Капля крови упала на белый кафель, яркая, как лепесток герани.
И только тогда я поняла: это конец.
Не ссора. Не очередная «разборка».
Конец.
Я собрала осколки в ладонь – те, что смогла найти. Самый крупный, с целым васильком, положила на стол. Остальное – в мусор.
А потом села и долго смотрела на этот одинокий синий цветок, пока за окном не стемнело окончательно.
Я не спала. У меня просто не получилось.
Лежала на боку, уткнувшись лицом в подушку, и ждала, что телефон завибрирует. Что раздастся звонок. Что он напишет «Прости». Как всегда.
Но экран оставался чёрным.
Меня начали прогревать солнечные лучи, проходившие сквозь чуть при открытое окно, запахло свежестью и утренней росой.
К утру я перестала моргать. Глаза высохли, будто выжженная пустыня.
Я поднялась с ощущением, будто кто-то вывернул мне грудную клетку наизнанку.
Он ещё напишет, – подумала я, натягивая халат на плечи. Обязательно напишет.
Но экран оставался мёртвым.
Прошла мимо кухни – не заходя, не глядя на то место, где ещё вчера лежали осколки.
В ванной я поймала своё отражение в зеркале. Глаза красные, веки опухшие. Волосы – грязная солома.
– Ну и что?
Я не стала их расчёсывать.
Машинально умылась, одела брюки, блузку и кардиган. Привела себя в порядок и направилась на работу.
Дорога мне показалась тоннелем, ничего вокруг я просто не замечала, привычные улицы и переулки, которые раньше казались мне оживлёнными с яркими вывесками стали чем то серым и унылым.
На работе дети смеялись, кричали, дёргали за рукав. Я улыбалась автоматически, отвечала машинально.
– Олеся Владимировна, вы сегодня какая-то не такая, – склонила голову набок рыжая Маша из 5 «Б».
– Я просто устала, – провела ладонью по её тёплой щеке.
А сама думала: Он ещё не позвонил. Почему не позвонил?
Школа вёла меня шумом и гамом. Дети бегали по коридорам, кричали, смеялись.
– Олеся Владимировна, а вы проверяли наши сочинения? – тронул за рукав Ваня из 8 «А».
– Ещё нет.
– А когда?
– Потом.
Я прошла в учительскую, села за стол и уставилась в стену.
Почему он не звонит?
Может, он ждёт, что я первая напишу? Может, он так наказывает меня?
Пальцы сами потянулись к телефону.
«Игорь…»
Стерла.
«Давай поговорим.»
Стерла.
«Прости.»
Не отправлено.
Весь день я думала о Игоре. Переключится и поработать у меня так и не получилось.
Домой я шла медленно, будто сквозь воду. Я хотела хоть как то отвлечься от этих мыслей, бьющих в мою голову. Вывеска К&Б попалась мне на пути, чем чëрт не шутит возьму бутылку.
Купила бутылку вина. Одну. Только одну.
Квартира встретила меня тишиной.
Я села на пол у двери, не включая свет, и прижала лоб к холодной стенке шкафа.
Один день.
Всего один день.
Но почему так больно?
Телефон лежал рядом. Молчал.
Я налила вина в первую попавшуюся кружку. Выпила залпом.
Потом ещё.
И ещё.
А когда бутылка опустела, я наконец разрешила себе заплакать.
Тихо.
Чтобы никто не услышал.
Даже я сама.
Вскоре меня просто вырубило.
Я проснулась от того, что кто-то бил молотком по вискам.
Головная боль. Сухость во рту. Вчерашнее вино застоялось в венах тяжёлым свинцом.
– Телефон. Где телефон?
Он лежал на тумбочке. Я даже не помню что бы его туда убирала.
Один пропущенный звонок.
Сердце рванулось в горло – но это была мама.
Я сбросила одеяло, и холодный воздух обжёг голую кожу. Вчера я так и не добралась до кровати – уснула на полу, обняв пустую бутылку.
Я услышала как идёт дождь.
Он стучал по подоконнику, как назойливый сосед. Я прижала ладонь к стеклу – ледяная влага просочилась между пальцами.
А если он промок?
Глупость. Он ненавидел дождь, всегда вызывал такси.
А если он пьяный?
Он мог напиться. Разозлиться. Сесть за руль.
А если…
Я схватила телефон.
Гудки.
Раз.
Два.
– Алло? – его голос был хриплым, сонным.
Я замерла.
– Олеся?
Я бросила трубку.
Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из грудной клетки. Я очень хотела чтобы он перезвонил, но в тоже время и боялась этого.
Что я ему скажу, просто буду молчать. Это вообще странно и глупо.
Сегодня был только четверг, делать нечего, нужно собираться в школу, быть может сегодня получится отвлечься от мыслей.
Я наспех выпила кружку кофе, умылась и побежала на работу.
Сегодня контрольная, как я это не люблю, опять сидеть и проверять до вечера.
Первые два урока прошли не заметно. Дети написали контрольную, а я всё это время была как будто в трансе. Всё смешалось, переживания за Игоря, расставание и бесконечные уроки.
В учительской я разлила кофе на контрольные.
– Ничего страшного, – сказала завуч, глядя на мокрые листы. – Случается.
Её взгляд скользнул по моим дрожащим рукам.
– Может, вам взять выходной? Вы неважно выглядеть.
– Нет.
Я быстро промокала салфетками тетрадки и за собиралась домой.
Квартира меня встретила мраком и тьмой. Я забилась в кресло с кружкой кофе и конфетами, подаренными Игорем за те синяки, оставленные им же.
Приближался вечер, дождь усилился.
Я стояла у окна и смотрела, как капли сливаются в струи, как город превращается в размытое пятно.
Телефон зазвонил.
Игорь.
Я не стала брать.
Он позвонил ещё раз.
И ещё.
На четвёртый раз я ответила.
– Чего ты хочешь? – мой голос звучал чужим.
– Ты что, играешься? – он рычал. – Ты сама позвонила!
Я молчала.
– Олеся! Ты меня слышишь?
– Слышу.
– Тогда слушай…
Но я положила трубку и выключила телефон.
Я испугалась, мне нечего было ему сказать.
Примерно через час я включила телефон и на экране загорелось смс:
« Нам нужно расстаться. Вокруг тебя постоянно парни, да я ревную, да я распускаю руки, но я такой какой есть, и я не изменюсь.