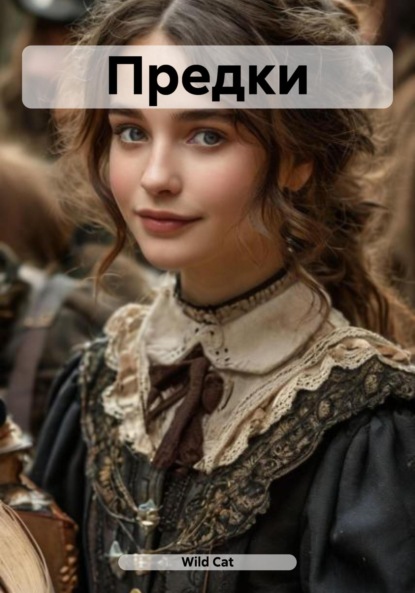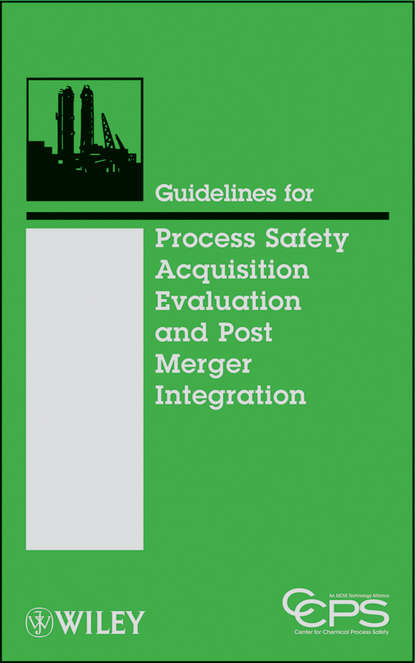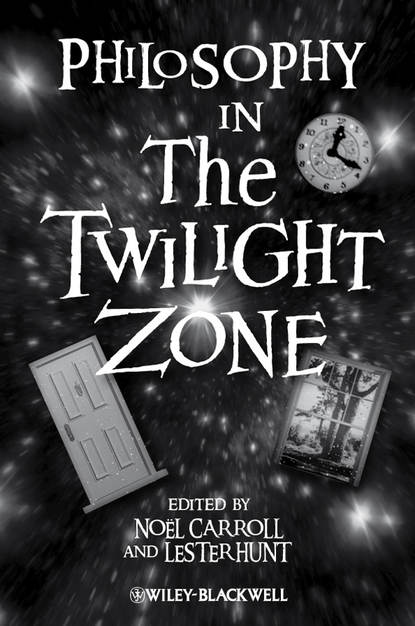Самый лучший шантаж

- -
- 100%
- +

Они спасли друг друга, хотя никто из них не искал спасения. Их история – о том, как из осколков прошлого можно собрать будущее.
Пролог
«Может быть, не все уходят. Может быть, кто-то приходит именно тогда, когда ты перестаешь ждать.»
Я подстроилась под шаги Милли, но её кеды все равно цеплялись за всё подряд.. За нашими спинами осталась кофейня, где мы только что сидели с латте в руках. Летний вечерний ветерок трепал волосы Милли, но она даже не попыталась их пригладить – слишком крепко сжимала ручку сумки, будто боясь выронить не только ее, но и саму мысль, что его взгляд на нее может быть особенным.
– Дорогая, мне кажется, ты себя накручиваешь, – сказала я, притворяясь спокойной и в то же время отчаянно скрывая, что глубоко внутри понимаю её слишком хорошо. Понимаю эту тихую панику, когда сердце бьётся только об одну стенку – глухую и немую. Моя собственная, похороненная поглубже, мысль о том самом парне отзывалась в её словах знакомым холодком. – Может быть…
Я сделала паузу, чтобы голос не дрогнул, и продолжила уже с наигранной, почти убедительной лёгкостью:
– Кхм, знаешь, а мне кажется, он просто запал на тебя. По уши. Просто боится подойти. Ты же знаешь, какие сейчас парни… – я махнула рукой, изображая вселенское понимание мужской психологии. – Сплошная броня из крутости, а внутри – семиклассник, боящийся протянуть записку. Он наверняка пялится на тебя украдкой, когда ты не смотришь, и строчит в голове гениальные диалоги, которые никогда не произнесёт вслух.
На это Милли лишь фыркнула, отвернувшись к витрине книжного магазина. В мутном отражении стекла я видела, как она покусывает нижнюю губу – жест, который я знала, как свои пять пальцев. Этот беззвучный диалог с самой собой, когда слова запутываются где-то внутри, а на выходе остаётся только это нервное движение. Знак не просто тревоги, а той самой, мучительной неопределённости, которая сводит всё внутри в тугой, болезненный узел.
– Запал? – повторила подруга, будто это слово обожгло ей язык. – Фай, он вчера даже не ответил на мой мем в общем чате. И вообще, ты всегда так говоришь. Помнишь Джексона? Ты три недели убеждала меня, что он сходит по мне с ума, а он вон с кем начал встречаться…
Голос её дрогнул на последних словах, и я резко остановилась, хватая её за локоть.
– Стоп. Ты опять за своё. – Я сделала паузу, подбирая слова, пока мимо нас с шумом проносился электросамокат. – Слушай, в прошлую субботу в кафе он «случайно»… – Я показала в воздухе пальцами кавычки. – Оказался в одной очереди с тобой. Он пытался предложить купить тебе кофе, пока ты прикидывалась, что внимательно изучаешь меню на потолке. А вчера? Ты, конечно же, тоже «случайно» оставила на скамейке свою любимую книгу – с которой не расстаёшься ни на день. И кто, по-твоему, потом два часа её искал, пока не нашёл у тебя же в сумке? Он! Он хотел помочь, а ты сделала вид, что сама не заметила, как положила её обратно.
– Он просто хороший человек, – перебила подруга, но в её голосе уже не было прежней уверенности. – Может, он так со всеми…
– Хорошие люди, дорогая, не запоминают, какой именно кофе ты пьёшь. – Я твёрдо продолжила. – Вчерашней сцены в кофейне после твоего ухода мне хватило, чтобы это понять. Мы купили кофе, зашёл Хэнк, ты вышла… а я – ну что поделать, ради чистого интереса – задержалась на минутку, будто искала что-то в сумке. И подслушала. Мне хватило этих секунд, чтобы уловить самое главное: ты ему не безразлична.
Милли замерла, не в силах сделать новый вдох.
– Он дважды спрашивал у бариста, что ты заказала, – продолжила я, наслаждаясь её реакцией. – И, видимо, очень настойчиво, раз тот парень за стойкой сдал тебя с потрохами: «Латте на овсяном молоке, берёт каждый день». Хотя… – Я понизила голос до конспиративного шёпота. – Я всё же надеюсь, что он при этом следил за языком. Будет неловко, если Хэнк вдруг узнает, что ты иногда подливаешь в этот самый латте коньяк прямо на виду у всех.
Попытка разрядить обстановку сработала. Милли улыбнулась, но тут же опустила взгляд, снова уйдя в себя. Мы к тому времени дошли до парка, и нашу тишину вдруг разрезала громкая, навязчивая музыка – где-то неподалёку компания ребят устроила импровизированную вечеринку на траве. Внезапный гул басов и смех прозвучали так же неуместно и оглушительно, как неловкое признание, повисшее между нами.
Признание в её собственных чувствах. Признание в том, что она боится, но очень хочет, и не решается.
– А если… – она замялась, нервно перебирая пальцами брелок на сумке – потёртого кожаного мишку, – а если я опять ошибусь? Вдруг он не тот, кем кажется? Я же не как ты, Фай. Я не могу просто так подойти и…
– Никто не просит тебя подходить, – мягко произнесла я, поглаживая её плечо. – Просто перестань прятаться за «вдруг он не тот». Дай ему шанс. Дай себе шанс.
– И к тому же… – она покраснела, глядя куда-то в сторону, – ты видела, как он иногда на меня смотрит? Будто… будто хочет не просто поболтать, а буквально съесть. Взглядом, знаешь ли, таким… пожирающим.
Мы посмотрели друг на друга – и через секунду обе громко расхохотались, сбрасывая накопившееся напряжение.
– Ну и пусть смотрит! – сквозь смех выдохнула я. – Это же комплимент в его, хищнической, манере. Ты же замечательная, дурочка. Не стоит так в себе сомневаться.
Я уже и не знаю, сколько мы бродим по городу, болтая обо всём на свете. Мы просто решили встретиться с моей подругой из колледжа и погулять. Близких друзей у меня, если честно, нет. Наверное, со стороны я кажусь замкнутой и нелюдимой, но дело не в этом. Просто… я не привыкла подпускать людей по-настоящему близко. Близко к сердцу. Потому что потом всегда больно отпускать. А они уходят – в этом я никогда не сомневалась. Люди всегда уходят, рано или поздно.
Но к моему удивлению, с Милли мне хорошо. Она словно островок тепла в этом холодном океане. И вот теперь я ловлю себя на мысли: а в чём, собственно, смысл всего этого? Зачем снова открываться, если опять будет больно? Но с другой стороны… Может, смысл как раз и есть в том, чтобы позволить себе быть рядом, даже зная, что всё временно?
Мы гуляем по улицам нашего забытого богом городка – Хоупвелла. Даже название звучит как ироничный эпилог: не великая битва, а тихое затухание под палящим солнцем. По будням здесь почти никого – только редкие машины мелькают мимо, как тени, и старый почтальон ковыляет с сумкой, полной неотправленных надежд. Витрины магазинов выглядят пыльными, а над тротуарами дрожит горячий воздух, будто город вздыхает от зноя.
Но по выходным этот городок оживает. Молодёжь слетается со спальных районов и окраин, собирается у разваливающегося кинотеатра, где когда-то крутили «Титаник», а теперь – лишь изредка включают старый проектор для местных фестивалей. Смех звучит медленнее, липнет к коже, как пот, а музыка из телефонов плывёт над асфальтом, раскалённым до хруста.
А мы с Милли идём чуть в стороне от этой суеты. Она в лёгком хлопковом платье, босиком – обувь болтается в руке, перевязанная шнурком. На плечах – старое джинсовое пальто, которое она всё равно не снимет, даже если на нас будет падать метеорит. Иногда она запрокидывает голову и смотрит в небо – не в поисках чего-то, просто чтобы почувствовать, как солнце играет на ресницах. Улыбается себе под нос, и я ловлю себя на том, что тоже улыбаюсь – без причины, просто от того, что рядом кто-то, с кем не нужно объяснять молчание.
Мы почти не говорим. Но это не то молчание, что давит – оно тёплое, как асфальт под босыми пятками в сумерках. И впервые за долгое время мне не страшно, что она уйдёт.
Может, потому что она пока не просится внутрь – просто идёт рядом. А может, потому что в этом тихом, обветшалом городке, где лето тянется бесконечно, как резинка на старых трусах, её присутствие кажется единственным доказательством: я всё ещё способна чувствовать – и, возможно, быть услышанной.
– Иди, у меня шнурок развязался, – сказала я, показывая ей рукой вперёд, чтобы она шла без меня.
Я остановилась, чтобы завязать этот дурацкий кусок ткани, который вечно торчит там, где не надо. Ругалась про себя – не столько на шнурок, сколько на всё вообще: на жару, на пыль, на то, что даже мелочи не дают покоя.
Мы стояли на аллее напротив парковки – той самой, где мы с Милли иногда гуляли с её котом; это у нас было что-то вроде ритуала. И вдруг из-за кустов донёсся странный звук. Не мяуканье. Не лай. А… вой? Или мычание?
– Это точно не животное, – прошептала я, сама не зная, кому.
Я шагнула ближе к зарослям, ограждавшим Аллею. Листья шуршали под ногами, а закат слепил глаза, заливая всё вокруг огненно-золотым сиянием. И тут я увидела его.
Ох, эту макушку… эту взъерошенную, растрёпанную макушку я узнаю из тысячи.
И тут в моей голове – щёлк – будто кто-то включил фонарь в комнате, где я годами не решалась зажечь свет.
Я резко поднялась с корточек, шнурок так и болтался, как хвост испуганной ящерицы, но мне было не до него. Подбежала к Милли, пока ещё видимой в последних лучах заката.
– Дорогая, остановись! – этот крик вырвался из меня срывающимся, надтреснутым, будто я пыталась крикнуть не подруге, а самой себе. Будто я уже не просто бежала по асфальту, а разбегалась и прыгала через барьер собственных запретов. В голове тут же, натужно и чётко, застучала логика: «Это не твоё дело, остановись и иди домой». Но тело эти доводы не слышало. Ноги, будто заведённые пружиной, сами неслись вперёд, сметая на пути все разумные «нет» и «нельзя». Они слушались только одного – того сгустка ужаса и адреналина, что сжался под рёбрами и тянул меня в темноту, туда, где двигались тени.
Она оторвалась от телефона лишь на секунду, мельком глянула на дорогу, и тут же снова уткнулась в экран, продолжая переписываться со своим «красавчиком». «Как она вообще видит, куда идёт, если из телефона не вылазит?» – мелькнуло у меня в голове, пока я смотрела, как её пальцы порхают по стеклу, а шаги автоматически обходят препятствия.
– Что такое? – наконец проговорила она, но шаг не замедлила.
– Придётся перенести нашу прогулку, – выдохнула я, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Мне мама написала… дома нужна помощь.
Только тогда она остановилась. Повернулась. Взгляд медленно сполз с телефона на меня – и в нём мелькнула тревога. – Видимо, что-то серьёзное, раз ты так разволновалась, – сказала она тише.
– Да нет, просто… семейные дела, – улыбнулась я, чуть шире, чем нужно. – Проблемка, но такая, что я точно справлюсь. Не думай об этом.
Она кивнула. Милли знает мало – о моей семье, и о моих «проблемках», и о том, как я вообще устроена внутри. К тому же никогда не лезла с расспросами. Не потому что не заботится – просто чувствует границы. И сейчас это… спасает.
– Давай я тебе чуть позже напишу, – добавила я мягко, – и ты сама убедишься, что у меня всё в порядке.
– Ну, хорошо. Ты, значит, сейчас домой? – с мягкой улыбкой спросила Милли, смахивая с лба прядь волос, прилипшую от жары.
Вопрос прозвучал как проверка на честность. «Нет, не домой, – кричало внутри. – Мне в ту, другую сторону, за угол, туда, где он…» Но сказать это вслух – значит признаться, признаться во всём сразу, в этой новой, хрупкой и пугающей реальности, которая ещё не обрела слов. Милли бы не отпустила, начала бы расспрашивать, волноваться, и этот миг – хрупкий, как мыльный пузырь, – лопнул бы на её глазах. Я не была готова ни делиться, ни объяснять. Не сейчас. Это было только моё.
– Да-да, всё верно, – поспешила я, чувствуя, как по спине бежит предательский холодный пот. – Но мне сначала кое-куда заглянуть надо. Туда. – Я махнула рукой в совершенно произвольном направлении, лишь бы не туда, куда на самом деле, – по мелкому делу. А ты иди. – Я посмотрела на неё с лёгким, наигранным упрёком, переводя стрелки. – Хоть по сторонам смотри, а то совсем в телефон зарылась.
Ложь вышла лёгкой и обтекаемой, но комок вины уже застрял где-то в горле. Я солгала близкому человеку. Ради призрака в сумерках.
Она нахмурилась:
– Точно? Ты же знаешь, я помню, где ты живёшь…
Вот оно. Она пойдёт проверять. Или предложит проводить. Надо быстро, быстро что-то сказать, что-то правдоподобное… Укол паники был острым и мгновенным.
Но пока я думала над ответом, мой взгляд, наверное, стал слишком уж откровенным – в нём читались все мои собственные, неразрешённые вопросы. И Милли, мой верный детектор по части душевных бурь, видимо, всё поняла. Она лишь мягко обняла меня за плечи, не настаивая, не требуя продолжения. И за эту тактичность, за это молчаливое «всё хорошо», я была ей безмерно благодарна.
Я ответила на объятие коротко, но крепко, на секунду уткнувшись носом в лёгкую ткань её летнего платья, пропахшую солнцезащитным кремом и яблоком.
– Тогда до встречи, – сказала она, уже отступая. – Будь осторожна, – добавила и, улыбаясь в экран, побежала прочь, будто за ней кто-то гнался. Её кеды, которые она уже успела надеть, гулко зашлёпали по раскалённому асфальту, оставляя за собой лёгкие облачка пыли.
Я проводила её взглядом, пока её силуэт не растворился у поворота. Внезапная тишина после её ухода показалась оглушительной, наполненной лишь стрекотом цикад. Я медленно выдохнула душный воздух, повернулась и пошла в противоположную сторону.
А внутри всё ещё стучало: что-то серьёзное… что-то серьёзное…
Хотя на самом деле серьёзного не было ничего. Кроме него.
Именно его силуэт, его характерную позу – но это была не задумчивая поза – он стоял, наклонившись к кому-то, и его плечи были напряжены, а жесты резки. Того, кто замер в тени напротив Аллеи. И чью макушку, и этот знакомый изгиб спины, я узнала бы из тысячи. Вот почему мне так срочно нужно было уйти. Вот почему я солгала подруге, что всё в порядке и что мне просто «кое-куда нужно заглянуть». Сердце колотилось не от тревоги – а от предвкушения. И от страха, что он выпрямится, развернётся и уйдёт, если я задержусь.
А я снова оказалась у кустов, ограждающих Аллею. Сердце колотилось, заставляя кровь гудеть в ушах. Спешно и почти бегом, лишь бы он не исчез.
***Пока я стояла и лгала подруге, пока изо всех сил пыталась удержать на лице маску беззаботной улыбки, – всё перевернулось. Он уже не просто стоял, склонившись. Теперь он двигался. Резко, жёстко, с пугающей, хищной грацией. В сгущающихся сумерках я различала лишь всплески движения – тени, рвущиеся вперёд и отскакивающие, – и глухие, влажные звуки, от которых кровь стыла в жилах. Тут уже вовсю разгорались страсти, но моё собственное сердце замерло. Я смотрела глазами, которые, я уверена, стали «по пять копеек». Но смешного не было ничего. Совсем.
Потому что в сгущающихся сумерках я видела, как этот атлет, завидный спортсмен и красавец нашего колледжа, тот самый, чья улыбка сводила с ума половину потока, перестал просто двигаться. Он обрушился всей своей массой на извивающегося под ним мужчину. Это уже не была драка, где есть шанс дать сдачи. Это было холоднокровное, методичное избиение. Каждый удар – точный, жёсткий, беззвучный с такого расстояния, но от того ещё более чудовищный – отзывался во мне глухим спазмом, будто кто-то сжимал внутренности в ледяном кулаке.
Это было не выяснение отношений. Это было наказание. Что-то древнее, животное и невероятно страшное, разворачивающееся в двадцати шагах от меня.
«Он… Что он делает?.. Кто этот человек? За что?..» – мысли метались, не находя опоры. Образ, который я лелеяла в голове – загадочный, тихий, мой – треснул и пополз осколками, обнажая нечто совершенно иное, чужое и опасное. Прежнее предвкушение обратилось в ужас, а страх, что он уйдёт, сменился леденящей надеждой, что он всё же уйдёт, исчезнет, и это видение никогда не было правдой. Но он не уходил. Он хотел закончить начатое.
Отсюда не очень хорошо видно, но я пригляделась и увидела кровь на лице мужчины, который лежал на земле. Тёмное, маслянистое пятно, расплывающееся по асфальту в отсветах уличного фонаря. И я поняла, что это никакой не розыгрыш.
«Божечки-кошечки, что он творит?» – пронеслось в голове, пока я инстинктивно прикрывала рот ладошкой, чтобы заглушить собственный стон.
– Эй! – крикнула я, но голос сорвался на шёпот. Он никак не реагировал на мои слова, поглощённый чем-то ужасным. Он что-то шипел, выкрикивал тому человеку сквозь стиснутые зубы, обрывки фраз долетали до меня: «…получи, падаль… думал, спрячешься?… это тебе за всех…». И с каждым словом – новый удар, то в лицо, то в живот, с глухим, мягким звуком, от которого мутило.
– Эээй, пс, пссс! – не сдавалась я, делая шаг вперёд. Никакой реакции, будто он был в броне из собственной ярости. – Хватит! – Мне пришлось подойти поближе, но не настолько, чтобы тот, кто лежит на земле, смог меня опознать, раз уж на то пошло.
Парень медленно, очень медленно поднял голову и посмотрел на меня. И в его глазах не было ничего знакомого – ни тени задумчивости, ни намёка на того человека, за которым я наблюдала. Там бушевала чистая, неразбавленная злоба. Что-то плоское, чёрное и бездонное, что заставило холод пробежать по спине. Это был взгляд того, кто не видит тебя, а видит лишь помеху. – Эй, слышишь? – Имя я его тоже не стала называть, чисто в конспиративных целях, но теперь и потому, что боялась, как отреагирует это новое, чужое существо с его лицом. – Пошли. – Я тяну ему свою руку, и он смотрит на неё, потом на меня, с абсолютным непониманием, будто я показала ему палку, а не ладонь.
– Уходи, – бросает он мне сквозь зубы, и в голосе нет угрозы, только плоская, безразличная команда.
– Он хотя бы жив?! – громким шёпотом выдыхаю я, заставляя себя не отшатнуться от его тона, бросая взгляд на распластавшуюся на асфальте фигуру. Тот, похоже, уже отправился в краткосрочный отпуск без сознания.
– Вроде… – Он начинает похлопывать того по щеке, небрежно, с отвращением, словно проверяя, не сломалась ли игрушка. – Да жив, видишь, двигается и дышит. Ну это пока.
– Ты что, совсем с ума сошёл? А если бы ты его, не дай бог, убил!? – продолжаю я, но голос уже дрожит. Он и с места не сдвинулся, продолжая прожигать меня этим адским, пустым взглядом.
– Да отвяжись ты, что пристала? – бросает он, резко повернув ко мне голову. – Вали, я сказал. Мы просто… беседуем. – Он произносит последнее слово с такой нарочитой небрежностью, что по спине пробегают мурашки. Но когда его взгляд встречается с моим, на его губах появляется странная, кривая улыбка. В ней нет ни радости, ни злости – только усталое, почти что признательное понимание того, что я здесь.
– Всё, пошли, я видела людей рядом, скоро тут будет полиция, – я продолжаю тянуть ему руку, отчаянно пытаясь достучаться. – А ещё нужно вызвать скорую! Этому. – Показав на мужчину пальцем. – Ему явно требуется неотложная помощь в возвращении в реальности.
– Да брось, не так уж и сильно я его покалечил. Хотя… – Его взгляд снова скользнул к лежащему, и в нём вспыхнула знакомая искра. – Такому уроду ещё мало досталось, честно говоря.
Он занёс руку, кулак сжат так, что кости побелели. Я инстинктивно вскинула свою и остановила его на взлёте, обхватив запястье. Он вздрогнул, как от удара током.
– Пошли, нужно идти, – уже умоляюще произнесла я, чувствуя под пальцами бешеный пульс.
Только сейчас он увидел меня. Его взгляд упал на мою руку, сдерживающую его, потом на моё лицо. Что-то дрогнуло. Он выдохнул долгим, прерывистым выдохом.
– Ладно. Если полиция в пути, значит, и скорая будет. Пусть разбираются, – произнёс он уже другим, сдавленным голосом, но всё ещё отстранённым. – А то он тут себе профиль отлежал.
Взгляд его потух, сменившись пугающей опустошённостью. – Да, ты права. Нужно валить отсюда.
В этот момент человек, лежавший на земле, застонал и начал дико, нечеловечески кричать, звать на помощь. Этот крик, словно щелчок, вернул парня в реальность. Он резким движением соскакивает с того, хватает меня за руку, переплетая наши пальцы в мёртвую хватку – видимо, он только сейчас в полной мере понял, что натворил.
– Бежим, – бросает он одно слово, и мы срываемся с места. Нужно бежать. И как можно дальше отсюда. От крови, от криков, от того, что я только что увидела в его глазах.
Глава 1
Прошлый вечер
Фай
«Браво. Маска держится идеально. Только глаза… они как титры в конце фильма, где мелким шрифтом написано: "Никакой силы не осталось. Веселье бутафорское.»
В комнате снова тихо и одиноко. Внизу, из кухни, доносится грохот посуды – мама после своего очередного двухнедельного заплыва решила, что один правильный ужин что-то изменит. Увы, я уже не верю. От этой мысли становится особенно грустно и горько – ведь я так хотела ей помочь. Водила по врачам, уговаривала, сидела рядом в бессонные ночи… Но они бессильны, если человек сам не хочет вылезать из ямы. А она не хочет. И от этого осознания сжимается сердце: ты стоишь на краю, протягиваешь руку, а тот, кто тонет, просто отворачивается, предпочитая темноту.
Подхожу к зеркалу. Смотрю на своё отражение, как на чужое фото. Прямые светлые волосы до лопаток. Большие, будто надутые губы. Глаза – голубые, красивые, но пустые. В них нет того света, что был раньше. Я всегда считала, что глаза – самая честная часть тела. В них можно прочесть всё: и тихую радость, и бездонную грусть. Но прочитать их сможет только тот, кто захочет не просто взглянуть, а увидеть. Кто заглянет за эту голубизну и найдёт там меня.
Внезапный звук – телефон вибрирует, разрывая тишину и моё самокопание. Сообщение.
Милли: Хэй, приветик! Не хочешь сегодня пойти на вечеринку? Там будет вся компания Сандлера))) Начало в девять.
Я знаю, как подруге безумно нравится один парень из этой компании. Она уже прожужжала все уши о каждой его родинке. А про его смех и улыбку я, кажется, уже могла бы написать диссертацию. Но она пока не знает, от кого я сама таю. Как-нибудь расскажу. Думаю, она будет в восторге – ей нравится, когда в жизни появляется хоть капля романтики, похожей на ту, о которой она читает в своих книжках.
Надеюсь, моя история окажется повеселее, чем её любимый любовный роман про герцога и горничную. Хотя, судя по последним событиям, конкуренция будет серьёзная.
Фай: Привет! Я за. Встретимся на перекрёстке за полчаса? Я буду в чёрном)).
Отвечаю быстро, стараясь, чтобы в сообщении звучала лёгкость и предвкушение. Не хочу, чтобы она уловила фальшь, не хочу лишних вопросов. Мне и так хватает тишины внутри, не нужно, чтобы её нарушали чужие тревоги.
Есть такое выражение: «Все видят, кем вы кажетесь, но никто не знает, кто вы есть». Я услышала его где-то, и оно застряло во мне, как заноза. Теперь я живу по этому принципу – будто ношу маску, за которой можно спрятать всё: и пустоту в глазах, и грохот разбитой посуды внизу, и тихую надежду, что однажды кто-то всё же увидит не маску, а то, что под ней.
Хотя с моей репутацией я особо не заморачивалась – в конце концов, я самая обычная девушка из спального района. Учусь почти на отлично, а в свободное от зубрёжки время подрабатываю в закусочной «Blue Hour». Директор, Джек, утверждает, что название – это тонкий намёк на мои глаза. Мол, тот самый «голубой час» перед рассветом, когда свет становится волшебным и пронзительным. Звучит, конечно, поэтично, особенно если не знать, что заведение открылось лет пять назад, а я тут всего полгода. Видимо, это его такой изысканный способ сказать: «Детка, у тебя красивые глаза, хочешь поработать на меня ночью?». Я делаю вид, что не понимаю намёков – я здесь, чтобы разносить бургеры, а не заводить романы с мужчинами, которые по возрасту могли бы быть моими дядями, да и дядей – сомнительной репутации. К счастью, сейчас у меня целый месяц отпуска – можно наконец взяться за учебники и выдохнуть. До конца учёбы осталось всего две недели, а там – долгожданная свобода, когда можно будет спать до полудня и не думать о работе.
Нам с мамой моей зарплаты хватает, чтобы не голодать и платить по счетам. Правда, на красивые глупости остаётся немного, поэтому я иногда беру ночные смены – они оплачиваются щедрее. Эти деньги превращаются в новую кофточку, в чашку капучино с Милли в парке, в маленькие, но такие важные радости. Они напоминают, что ты живёшь, а не просто перекладываешь бумажки и тарелки из пункта А в пункт Б. Хотя, если честно, иногда после десятичасовой смены с подносом в руках я чувствую себя скорее высококвалифицированным транспортным средством, чем романтичной натурой с глазами «голубого часа». Но это уже детали.