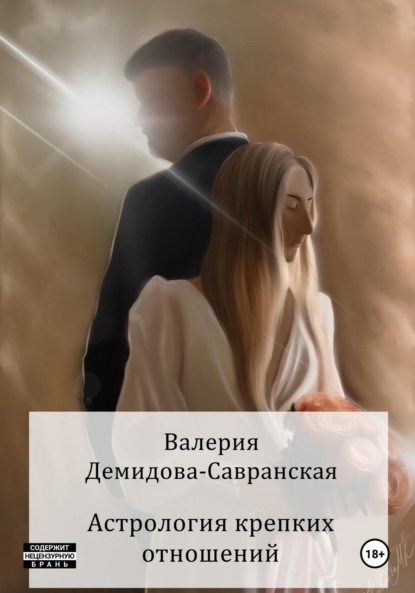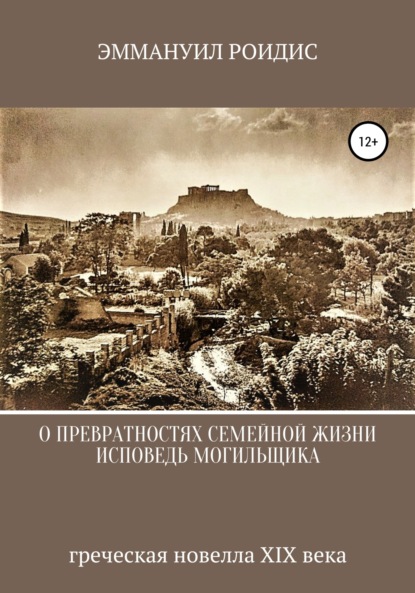Девять касаний и одно прощание

- -
- 100%
- +

Эхо забытого тела
Рим дышал жаром даже ночью, выдыхая в открытые окна дневную усталость раскаленных камней. Анна сидела в кресле, подтянув колени к груди, и смотрела на город, который перестал быть для нее домом, превратившись в огромный, богато украшенный мавзолей. Мавзолей ее чувств, ее слов, ее самой. За окном, в раме из плюща, рассыпались по холмам огни, похожие на упавшие звезды, но их свет не достигал ее, застревая в толстом, вязком стекле ее апатии. Уже год. Триста шестьдесят пять пустых вращений земли, триста шестьдесят пять рассветов, которые она не встречала, и закатов, которых не провожала. Они просто случались, как случается прибой с безразличными к нему скалами.
Ее квартира, когда-то бывшая средоточием жизни, споров и смеха, теперь напоминала музей заброшенных вещей. Книги на полках, казалось, покрылись невидимым слоем пыли – пыли забвения. Ноутбук на столе спал мертвым сном, на его темном экране отражалось ее бледное, невыразительное лицо. Последний открытый файл назывался «Глава четвертая», и курсор в нем застыл на середине предложения год назад. Он так и мигал там несколько недель, словно отчаянное, слабое сердцебиение, а потом погас, когда сел аккумулятор. Она больше не заряжала его. Слова ушли. Они покинули ее вместе с ним, забрав с собой все цвета, все вкусы, все ощущения. Он ушел, и мир стал плоским, двухмерным, как плохая фотография.
Его звали Марко. Имя, которое она больше не произносила вслух, но которое эхом отдавалось в каждом ударе ее сердца, в каждой паузе между мыслями. Он был ее архитектором, не только по профессии, но и по сути. Он выстроил ее мир, наполнил его смыслом, светом и воздухом, а потом одним движением вынул несущую стену, и все рухнуло, погребая ее под обломками. Расставание было не просто болезненным, оно было аннигилирующим. Оно стерло ее, оставив лишь оболочку, пустой контур, который продолжал по инерции дышать, ходить, покупать продукты в маленькой лавке на углу. Лавочник, синьор Марио, каждый раз спрашивал: «Все хорошо, синьорина?», и она каждый раз кивала, изображая улыбку, которая не доходила до глаз. Ее глаза, когда-то живые, чуть насмешливые, теперь были похожи на два потухших колодца.
Она встала и подошла к книжному шкафу. Ее пальцы, длинные, тонкие, скользнули по корешкам. Вот ее книга. Единственная. «Шелковая тишина». Удивительно, но она все еще продавалась. Критики назвали ее «пронзительным и тонким дебютом», «романом, написанным на выдохе». Сейчас ей казалось, что его написал кто-то другой. Та женщина умела чувствовать, умела превращать боль в метафоры, а любовь – в кружево из слов. Эта женщина умерла. Анна провела пальцами по своему имени на обложке. Анна Морелли. Кто это? Просто набор букв.
Она помнила, как Марко говорил, что ее руки – это отдельное произведение искусства. Он мог часами держать их в своих, целовать каждый палец, восхищаясь их изяществом. Сейчас ее руки казались ей чужими, двумя бледными пауками, живущими своей, отдельной от нее жизнью. Они все еще могли держать чашку кофе, могли набирать номер телефона издателя, чтобы в очередной раз сказать, что рукопись «почти готова», но они разучились главному – они разучились касаться. Касаться клавиш, чтобы рождался текст. Касаться другого человека, чтобы почувствовать тепло. Касаться собственной кожи, чтобы убедиться, что она еще существует.
Тело. Оно стало тюрьмой. Молчаливой, послушной, но абсолютно чужой. Она кормила его, мыла, укладывала спать, но не чувствовала его. Оно было просто механизмом, который нужно было поддерживать в рабочем состоянии. Иногда по ночам она просыпалась от фантомного ощущения его прикосновений – тяжесть его руки на ее бедре, его дыхание на ее шее. И тогда на мгновение тело вспоминало, как быть живым, и вздрагивало, пронзенное судорогой памяти. Но потом все снова застывало, превращаясь в холодный мрамор.
Идея пришла внезапно, как приходит лихорадка. Резкая, иррациональная, безумная. Если она больше не может найти себя внутри, может, стоит поискать снаружи? В отражениях. В глазах других людей. Не искать любовь, Боже упаси. Любовь была разрушительной силой, ядом, который она больше не хотела пробовать. Искать что-то другое. Ощущение. Эхо. Отклик.
Девять. Число показалось ей правильным. Мистическим, завершенным. Девять встреч. Девять касаний. Девять незнакомцев, которые станут для нее зеркалами. Она не будет искать в них утешения или страсти. Она будет искать в них себя. Крошечные осколки своего «я», которые, возможно, удастся собрать во что-то целое. Это был не план, а скорее акт отчаяния. Эксперимент сумасшедшего ученого, где подопытным кроликом было ее собственное сердце, ее собственная душа. Она подошла к столу, нашла ручку, которая долго не писала, расписала ее на полях старой газеты. На чистом листе она вывела одно слово: «Начало».
Первый шаг был самым трудным. Выйти из дома не за продуктами или в аптеку, а просто так. Без цели. Позволить городу поглотить себя. Она надела простое черное платье, то, что не требовало от нее ничего – ни настроения, ни повода. Распустила темные волосы, которые волнами упали на плечи. В зеркале отразилась высокая, стройная женщина с усталыми глазами. Она была красива той отстраненной, холодной красотой, которая восхищает, но не греет. Она подкрасила губы красной помадой – единственный яркий штрих, вызов серости своего существования.
Рим встретил ее гулом голосов, запахом цветущих олеандров и подгоревшей пиццы. Туристы текли рекой по узким улочкам Трастевере, смеясь, фотографируя, живя. Анна чувствовала себя песчинкой, занесенной в этот бурный поток, но не являющейся его частью. Она шла, не разбирая дороги, позволяя ногам самим выбирать путь. Ее вела не логика, а какая-то внутренняя потребность в месте, где много теней и приглушенного света.
Она нашла его случайно. Небольшой бар, спрятанный в глубине переулка, с вывеской, на которой почти стерлись буквы. Внутри царил полумрак, пахло деревом, джином и чем-то неуловимо старым, как пыль на антикварных книгах. За длинной стойкой из темного, истертого дерева хозяйничал молодой бармен. Ему было не больше двадцати пяти. Светлые вьющиеся волосы, открытая улыбка, ловкие, быстрые движения. В нем не было ничего особенного, никакой роковой красоты или загадочности. Он был просто живой. И в этом было все.
Анна села на высокий стул в самом дальнем углу, где тень была гуще всего. Она заказала негрони, горький, как ее жизнь. Она смотрела, как бармен – кажется, его звали Лука, так к нему обратился кто-то из посетителей – виртуозно смешивает напитки. Его руки порхали, как птицы, между бутылками, шейкерами и бокалами. Он был воплощением движения, энергии, самой жизни, которая в ней давно остановилась.
В другом конце бара сидел мужчина. Он был старше Луки, может, ближе к ее возрасту или чуть больше. Он не пил, перед ним стоял лишь стакан воды. В руках у него была камера, старая, пленочная «Лейка». Он не фотографировал людей в открытую. Он ловил моменты: блик света на бутылке, изгиб чьей-то руки со стаканом, тень, упавшую на стену. Его взгляд был цепким, внимательным, как у хищника, но при этом отстраненным. Он был наблюдателем. В какой-то момент их глаза встретились. Его – темные, пронзительные, под чуть нахмуренными бровями. Он не улыбнулся, не отвел взгляд. Он просто смотрел, словно кадрировал ее в своем видоискателе, словно видел не только черное платье и красные губы, а всю ту пустоту, что стояла за ними. Анне стало не по себе. Она первая опустила глаза, уставившись на кубики льда в своем бокале. Этот человек видел слишком много.
Она допила свой коктейль. Потом заказала второй. Горечь алкоголя приятно обжигала горло, но не приносила опьянения. Она была слишком далеко, слишком глубоко в своем коконе, чтобы алкоголь мог до нее добраться. Лука поставил перед ней второй бокал и улыбнулся.
– Тяжелый день? – спросил он просто, без флирта, без скрытого смысла. Простое человеческое участие.
– Тяжелый год, – ответила Анна, сама удивившись своей откровенности.
Он кивнул, словно понял.
– Иногда помогает просто сменить напиток. Или город.
– А если не помогает? – спросила она, вертя в пальцах влажный от конденсата бокал.
– Тогда, наверное, нужно сменить себя, – он пожал плечами и отвлекся на другого клиента.
Сменить себя. Легко сказать. Она пыталась. Она написала книгу, чтобы изжить свою прошлую боль. Она влюбилась в Марко, чтобы построить новую себя. И где она теперь? На руинах.
Мужчина с камерой встал, чтобы уйти. Проходя мимо нее, он на мгновение задержался.
– Хороший свет, – сказал он тихо, кивнув в ее сторону. – Контрастный.
И ушел, оставив Анну в полном недоумении. Свет? Здесь, в этом темном углу? Она посмотрела на себя. Черное платье, бледная кожа, алые губы. Контраст. Может, он говорил об этом. Или о чем-то еще.
Она просидела в баре до закрытия. Посетители разошлись, музыка стихла. Остались только она и Лука, который протирал стойку.
– Вам некуда идти? – спросил он мягко.
Анна посмотрела на него. В его глазах было простое, незамутненное любопытство. Не жалость. Это было важно.
– Есть куда, – сказала она. – Но не хочется.
Он закончил работу, снял фартук.
– Я могу вас проводить. Рим ночью бывает недружелюбным.
Она колебалась лишь мгновение. Это был он. Первый. Первое касание. Любопытство. Спонтанность. Вкус свободы. Так она решила.
– Хорошо, – сказала она.
Они вышли на улицу. Ночной воздух был теплым и пах жасмином. Они шли молча. Тишина между ними не была неловкой. Она была… естественной. Он не пытался ее развлекать, не задавал лишних вопросов. Он просто шел рядом. Его присутствие было легким, ненавязчивым.
– Я живу здесь, – сказала Анна, остановившись у своего подъезда.
– Красивый дом, – сказал Лука, подняв голову и посмотрев на старый фасад, увитый плющом.
Наступила пауза. Сейчас он должен был попрощаться и уйти. Этого требовали правила приличия. Но ее эксперимент требовал другого.
– Хочешь выпить кофе? – спросила она, и ее собственный голос показался ей чужим.
Он посмотрел на нее внимательно, словно пытаясь прочитать что-то в ее глазах.
– Кофе в два часа ночи? Смело.
– Я не люблю спать, – ответила она правду.
Он улыбнулся.
– Хорошо. Только я предпочитаю чай.
Ее квартира встретила их тишиной и запахом пыльных книг. Она вдруг остро почувствовала всю запущенность своего жилища, весь этот застывший траур. Ей стало стыдно.
– У меня беспорядок, – сказала она глухо.
– У всех творческих людей беспорядок, – легко ответил он, осматриваясь. – Это называется «вдохновение в процессе». Вы ведь писательница?
Она кивнула, удивленная его проницательностью.
– Видел вашу книгу в витрине недалеко отсюда. «Шелковая тишина». Красивое название.
Он не спросил, пишет ли она что-то сейчас. И она была ему за это благодарна.
Она поставила чайник, достала две чашки, которые, казалось, не использовала вечность. Ее руки слегка дрожали. Она чувствовала себя подростком на первом свидании. Глупо. Ей тридцать четыре. Она взрослая, успешная (когда-то) женщина. Но сейчас она была просто клубком нервов.
Они сидели на кухне. Он рассказывал о себе. Приехал в Рим из маленького городка на Сицилии, мечтает открыть свой бар, где будет играть джаз. Его рассказы были простыми, земными, в них не было экзистенциальной тоски и сложных рефлексий. Он говорил о вкусе лимонов, которые растут у него дома, о шуме моря, о том, как правильно смешивать кампари с джином. Анна слушала и впервые за долгое время не анализировала, не искала скрытых смыслов. Она просто слушала звуки его голоса.
Когда он закончил, снова повисла тишина. Он посмотрел на ее руки, лежавшие на столе.
– У вас руки пианистки. Или писательницы, – сказал он.
Потом он протянул свою руку и очень осторожно, почти невесомо, коснулся кончиками пальцев ее пальцев.
Первое касание.
Это было не похоже ни на что. Не страсть. Не нежность. Это был разряд тока, прошедший по мертвым проводам. Ее тело, такое далекое, такое чужое, вдруг отозвалось. Она вздрогнула, отдернув руку, как от огня.
– Прости, – сказал он, тут же убрав свою.
– Нет, все в порядке, – прошептала она. – Просто… я давно никого не…
Она не закончила.
Он смотрел на нее, и в его взгляде не было ни осуждения, ни желания. Только понимание. Такое простое и ясное, что ей захотелось плакать. Но она не плакала уже год.
Она встала, подошла к нему и, не давая себе времени на раздумья, поцеловала его.
Его губы были мягкими и теплыми, на вкус как мятный чай. Он ответил на поцелуй не сразу, сначала удивленно, а потом мягко и настойчиво. Это не был поцелуй-обещание или поцелуй-прелюдия. Это был поцелуй-вопрос. И она ответила на него, приоткрыв губы.
Они переместились в спальню. Она не помнила, как. Все происходило словно в тумане, в замедленной съемке. Она не думала. Впервые за год она не думала. Она действовала, подчиняясь какому-то древнему, забытому инстинкту.
Свет уличного фонаря пробивался сквозь неплотно задернутые шторы, рисуя на стенах и на их телах причудливые узоры. Он стянул с нее платье, и оно черной змеей соскользнуло к ее ногам. Ночной воздух коснулся ее кожи, и она поежилась. Он провел рукой по ее плечу, по изгибу спины, по бедру. Его прикосновения были уверенными, но не требовательными. Он не пытался ее соблазнить или зажечь. Он, казалось, просто изучал ее, как изучают карту незнакомой страны.
Анна лежала на кровати и смотрела в потолок. Она была наблюдателем. Она следила за ощущениями, которые рождались в ее теле, как за редкими, пугливыми животными. Вот его ладонь на ее животе – и легкий спазм где-то в глубине. Вот его губы на ее шее – и по коже пробегают мурашки. Это было так странно. Ее тело реагировало. Оно помнило. Оно было живым.
Он не говорил ни слова. И она была благодарна ему за это молчание. Слова бы все испортили. Слова принадлежали прошлому, принадлежали Марко. С ним все было пропитано словами, смыслами, обещаниями, упреками. Здесь же была только чистая физика. Эхо забытых ощущений.
Когда он вошел в нее, она не почувствовала ни экстаза, ни боли. Она почувствовала… присутствие. Присутствие другого человека внутри себя. Наполненность там, где так долго была пустота. Она вцепилась пальцами в его плечи, не от страсти, а от желания заземлиться, почувствовать реальность этого момента. Он двигался медленно, ритмично, и под этот ритм ее собственное тело начало оттаивать.
Это не была любовь. Это не была даже страсть в ее привычном понимании. Это было пробуждение. Как будто кто-то включил рубильник, и по давно обесточенной системе пошел слабый, но ощутимый ток. Она чувствовала текстуру простыней под спиной, чувствовала вес его тела, слышала его сбившееся дыхание и свое собственное, которого она так давно не замечала. Она закрыла глаза, и под веками вспыхнули какие-то цветные пятна. Цвета. Она забыла, что они существуют.
Он кончил тихо, почти беззвучно, уткнувшись лицом в ее волосы. Потом лег рядом, тяжело дыша. Анна лежала неподвижно, прислушиваясь к себе. Что она чувствует? Облегчение? Стыд? Разочарование? Ничего из этого. Она чувствовала удивление. И легкую, ноющую боль в мышцах, которые давно не работали. Это была хорошая боль. Боль, которая доказывала, что она не из камня.
Он заснул почти сразу, доверчиво и безмятежно, как ребенок. Анна долго лежала рядом, боясь пошевелиться. Она смотрела на его лицо в тусклом свете. Молодое, простое, безмятежное. Он был просто проводником. Случайным попутчиком, который помог ей сделать первый шаг. Он ничего от нее не хотел, ничего не требовал. Он просто был. И этого оказалось достаточно.
Под утро она встала и подошла к окну. Рассвет окрашивал небо над Римом в нежные, перламутровые тона. Город просыпался. И вместе с ним, кажется, просыпалось что-то и в ней. Она прижала ладонь к стеклу. Оно было холодным. А ее ладонь… ее ладонь была теплой. Она чувствовала это тепло. Впервые за год она чувствовала тепло своей собственной кожи.
Внизу, на почти пустой пьяцца, она снова увидела его. Мужчину с камерой. Лоренцо. Она не знала его имени, но почему-то была уверена, что это он. Он стоял у фонтана, направив свой объектив не на величественные купола соборов, а вверх, на ее окно. На мгновение ей показалось, что он фотографирует не здание, не игру света на стекле, а ее саму, ее силуэт на фоне просыпающегося неба. Щелчок затвора был почти не слышен, но она его почувствовала. Как еще одно касание. Невидимое, но от этого не менее реальное.
Когда она вернулась в спальню, Луки уже не было. Он ушел по-английски, не прощаясь. На подушке лежал сложенный вдвое листок бумаги. Она развернула его. «Спасибо за чай», – было написано аккуратным, но простым почерком. И больше ничего. Ни номера телефона, ни обещания позвонить. Идеально.
Анна снова подошла к окну. Мужчины с камерой уже не было. Улицы наполнялись людьми, звуками, жизнью. Она стояла и смотрела на этот мир, который вдруг перестал быть плоской декорацией. Он снова обретал объем, глубину, цвет. Она еще не была его частью. Она все еще была зрителем. Но она больше не была слепой.
Она вернулась на кухню. На столе стояли две чашки – ее, с остатками горького негрони, и его, с недопитым мятным чаем. Она взяла свою руку и внимательно посмотрела на нее. Бледная кожа, тонкие пальцы, аккуратные ногти. Рука писательницы. Рука женщины. Она поднесла ее к лицу и вдохнула. Рука пахла его кожей, чем-то свежим, цитрусовым, и немного – ее собственными духами. Она сжала пальцы в кулак, потом разжала. Рука ее слушалась.
Она не была исцелена. Рана никуда не делась, она все так же зияла в ее душе. Но что-то изменилось. Сквозь толстый лед ее безразличия пробился крошечный, едва заметный росток. Ощущение. Эхо забытого тела. Оно было слабым, почти неразличимым, но оно было. И этого было достаточно для начала. Для первой главы.
Она подошла к столу, открыла ноутбук, который не открывала год, и включила его. Экран ожил, и на нем появилось то самое, незаконченное предложение. Она смотрела на него несколько минут, потом стерла все. Всю четвертую главу. Весь старый текст, пропитанный болью и прошлым. На чистой белой странице она напечатала заголовок: «Глава первая». Курсор замигал внизу, терпеливо ожидая. И впервые за долгое время Анна Морелли знала, о чем будет следующее слово.
Театр теней и власти
Прошла неделя. Неделя, сотканная из призрачного тепла на коже и странной, ноющей тишины в мышцах, которые вспомнили, что значит быть живыми. Ночь с Лукой не была откровением, она была эхом. Эхом в пустом колодце, которое лишь подтвердило его глубину и пустоту. Анна чувствовала себя исследователем, вернувшимся из первой экспедиции с единственным образцом – камнем, который оказался теплым на ощупь. Это было любопытно, но этого было недостаточно. Простое, земное тепло тела было лишь первой нотой в давно забытой мелодии. Оно пробудило слух, но не вернуло музыку. Она все еще была глуха к себе.
Ее ноутбук оставался открытым. Чистая страница под заголовком «Глава первая» смотрела на нее с укором и ожиданием. Она написала несколько абзацев, описывая тусклый свет бара, ловкость рук бармена, горечь негрони. Слова получались точными, отстраненными, как отчет патологоанатома. Она описывала ощущение, но не чувство. Она фиксировала событие, но не его суть. Чего-то не хватало. Возможно, следующая встреча должна была быть полной противоположностью первой. Если Лука был спонтанностью, инстинктом, самой юной, бесхитростной жизнью, то второй… второй должен был быть конструкцией. Игрой ума. Расчетом. Анна, писательница, привыкла иметь дело со структурами, с выстроенными мирами, где каждое слово на своем месте. Она боялась хаоса чувств, но мир продуманных стратегий был ей знаком. Она решила, что следующее касание должно быть не о теле, а о воле. Не о тепле, а о власти.
Она знала, где искать такую игру. В мире Марко, ее архитектора, власть была эстетикой. В мире, который она собиралась исследовать теперь, эстетика была лишь одним из инструментов власти. Мир больших денег, холодных решений и безупречных фасадов. Она нашла повод – благотворительный аукцион в галерее современного искусства. Место, где щедрость измерялась количеством нулей, а сострадание было формой демонстрации статуса. Идеальная сцена для театра теней.
Она готовилась к этому выходу, как актриса готовится к роли. Черное платье, простое и текучее, как у Луки, было убрано в шкаф. Сегодня она выбрала другое оружие. Платье цвета темного вина, строгого кроя, с закрытым воротом и асимметричным разрезом, лишь намекавшим на ногу при ходьбе. Оно было элегантным, но не соблазнительным. Оно было заявлением о контроле. Волосы она собрала в низкий, тугой узел, открыв шею и линию плеч. Красная помада была заменена на глубокий, почти сливовый оттенок. Она смотрела на свое отражение и видела незнакомку. Не ту бледную тень, что бродила по квартире, и не ту женщину, что поддалась минутному порыву в баре. Эта женщина в зеркале была собрана, сфокусирована, непроницаема. Она была готова играть.
Галерея гудела, как растревоженный улей. Воздух был плотным от запаха дорогих духов, шампанского и тихой, но всепроникающей ауры денег. Люди двигались плавно, их смех был приглушенным, жесты – выверенными. Вокруг висели огромные, тревожные полотна – абстрактные всплески цвета, которые, как ей сказали, символизировали «кризис современной идентичности». Анна подумала, что ее собственную идентичность можно было бы изобразить как совершенно белое полотно, на котором от долгого пребывания на солнце выцвели все краски.
Она взяла бокал шампанского и заняла позицию у одной из колонн, позволяя толпе обтекать себя. Она не искала взглядом. Она ждала, что взгляд найдет ее. Это было частью игры. Она была не охотником, а приманкой. Она чувствовала на себе взгляды – любопытные, оценивающие, мимолетные. Но она ждала одного, особенного. Взгляда, в котором не будет простого желания, а будет анализ.
И она его дождалась. Он стоял в группе из трех мужчин, одетых в безупречные костюмы. Он был старше остальных, может, лет сорока пяти. Седина тронула виски, но это лишь подчеркивало резкость черт его лица. Он не был красив в классическом понимании. В его лице была порода и усталость хищника, которому давно наскучила любая охота. Он держал бокал с виски, а не с шампанским. Он слушал собеседников, слегка склонив голову, но его глаза, холодные, светло-серые, скользили по залу. Они не задерживались на полуобнаженных плечах или ярких улыбках. Они сканировали пространство, словно искали слабое место в обороне. Когда его взгляд остановился на ней, Анна почувствовала не укол тщеславия, а легкий озноб. Он не раздевал ее глазами. Он, казалось, видел структуру костей под кожей, читал напряжение в линии ее плеч, измерял дистанцию, которую она выстроила вокруг себя. Он смотрел на нее так, как Марко смотрел на чертежи зданий – видя несущие конструкции, потенциальные трещины и скрытые возможности.
Он что-то коротко сказал своим спутникам и направился к ней. Он двигался неспешно, с уверенностью человека, для которого весь мир – его кабинет. Анна не отвела взгляд. Она встретила его приближение, чувствуя, как внутри все сжимается в тугой узел предвкушения и тревоги.
«Добрый вечер. Меня зовут Эрик. Кажется, мы с вами единственные, кому эти картины кажутся несколько… переоцененными». Его голос был низким, спокойным, без малейшего намека на флирт. Он звучал как констатация факта.
«Анна, – представилась она. – Возможно, мы просто не понимаем язык, на котором они говорят. Или они просто кричат бессмыслицу, но очень громко».
Он едва заметно улыбнулся, уголком рта. «Мне нравится ваша интерпретация. Она предполагает возможность диалога, даже если это диалог с сумасшедшим. Большинство здесь просто видят ценник».
«Ценник – это тоже язык, – парировала Анна. – Возможно, самый понятный из всех».
«Вы циник, Анна?» – спросил он, делая маленький глоток виски.
«Я реалист. Цинизм требует слишком много энергии, которую можно потратить на что-то более продуктивное».
«Например?» Его взгляд был прямым, почти физически ощутимым.
«Например, на то, чтобы понять правила игры, вместо того чтобы жаловаться на них».
Вот оно. Слово было произнесено. Игра. Он кивнул, словно она подтвердила его первоначальную гипотезу. «Вы говорите как человек, который играет, чтобы выигрывать. А я всегда думал, что для женщин важнее сам процесс».
«Возможно, вы просто играли не с теми женщинами», – сказала Анна, и сама удивилась своей смелости. Воздух между ними, казалось, стал плотнее, наэлектризовался. Это была не химия притяжения, а статика противостояния.