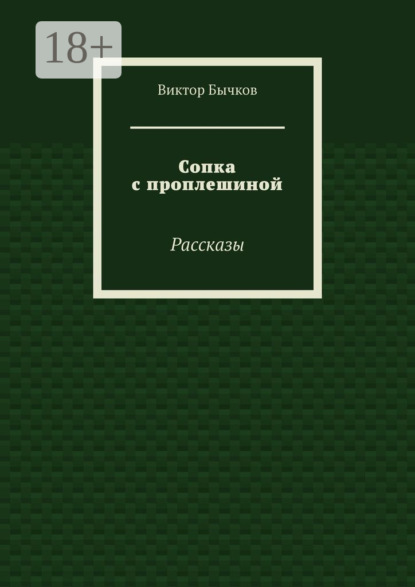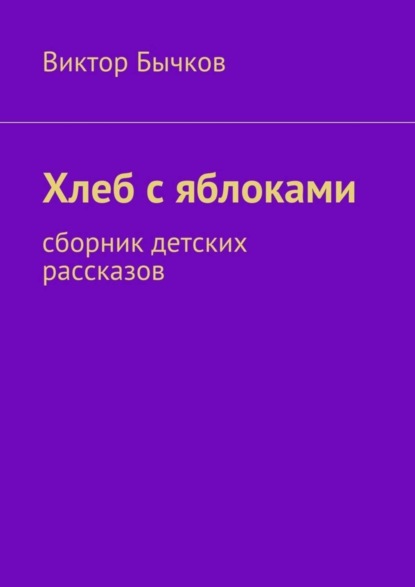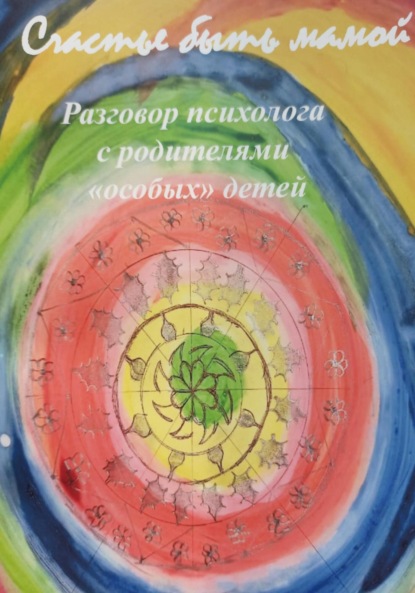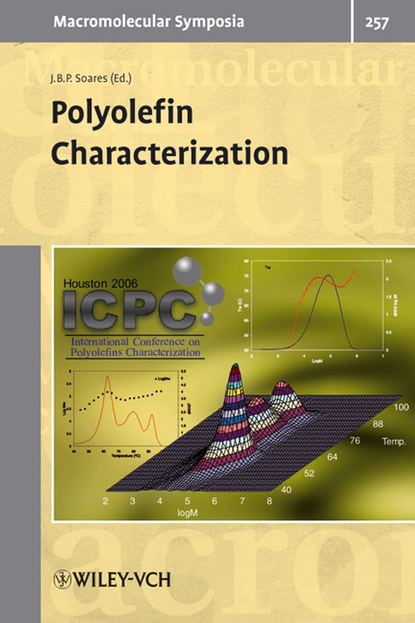Мифы о Солженицыне, опровергнутые им самим
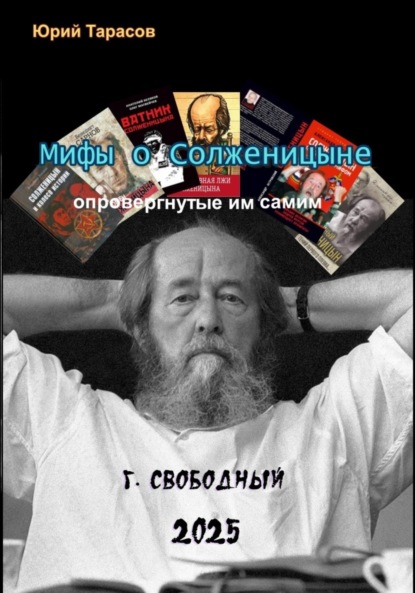
- -
- 100%
- +

Вместо вступления
Первая книга Н.Решетовской, как основа мифов о Солженицыне
Книга первой жены Солженицына Натальи Решетовской «В споре со временем», вышедшая за рубежом на итальянском языке в 1974 году, а на русском и ряде других языков в 1975, стала главным источником длинной серии публикаций отрицательных мифов о нём, которая продолжается до сих пор. Все последующие авторы, старавшиеся бросить тень на Солженицына, так или иначе ссылались на информацию, впервые изложенную в книге Решетовской. До сих пор никто не пытался подвергнуть её сомнению. Даже защитники Солженицына обходят эту книгу стороной.

Но давайте всё же попробуем разобраться, что правда, а что нет в написанном Н.Решетовской о своём бывшем муже, отделить в нём, так сказать, мух от котлет. И поможет нам в этом другая книга – «АПН – я – Солженицын», написанная ею незадолго до смерти и ставшая чем-то вроде исповеди, в которой она, помимо всего прочего, изложила и любопытные обстоятельства работы над своей первой книгой, ставящие под сомнение многое из её содержания.

Но сначала посмотрим, как сам Солженицын оценивал первую книгу Решетовской.
Из пресс-конференции Нобелевского лауреата Солженицына. Декабрь 1974 года:
«Я сейчас имел возможность прочесть ее по-русски и могу сказать, что эта книга просто не обо мне. Она о некотором персонаже, который на моем месте желательно видеть КГБ. Для этого факты большей частью извращены, а мотивировки… – так просто вообще ни одной подлинной внутренней мотивировки нет. Все мотивировки придуманы со стороны. Эта книга является частью кампании против меня, начатой после издания «Архипелага», чтобы как-нибудь снизить, смазать значение издания «Архипелага»».
Из книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»:
«Задачи «живого свидетельства» в ней поняты странно: большая доля посвящена событиям, которым Решетовская никогда не была свидетелем. Она берётся описывать лубянскую камеру, быт на шарашке, вообще лагеря, прототип Шухова искать в батарейном поваре (никогда им не был). Описывает мою трёхлетнюю ссыльную жизнь, будто была её соучастницей, будто не именно там покинула меня, душимого раком и в непрорываемом одиночестве. И даже историю моей болезни берётся излагать, о самом смертном моменте, декабрь 1953: «состояние приличное». Напротив, шесть последних лет, после 1964, нашей совместной интенсивно–мучительной, раздирающей жизни перед разводом – обойдены вовсе, тут книга обрывается. (…) Никогда не заметила никакой внутренней линии моей жизни, ни страсти к поиску исторической правды, ни любви к России, всё это заменено единственным движущим мотивом – «быть наверху!». (А легче всего мне было, после хрущёвской ласки, остаться «наверху» и помогать казённым перьям.) Книги мои цитирует недобросовестно, с натяжкой обращая цитаты против меня».

В общем, почти все сомнительные места книги Н.Решетовской Солженицын тут перечислил.
А теперь попробуем разобраться, почему же Решетовская, старавшаяся, по её утверждению, писать о Солженицыне объективно, позволила себе домыслить то, что касалось его жизни в заключении, свидетелем которой она не была и быть не могла?
Вот что сказала она об этом сама в последней своей книге-«исповеди».
«…28 декабря в Париже на русском языке вышел 1-й том «Архипелага ГУЛАГа»!!! (…) Очень скоро по западному радио стали читать главы из «Архипелага…?», в том числе главу «Следствие». Автор очень загадочно написал в ней о том, что не имеет оснований гордиться своим поведением на следствии, просит не бросать камень в тех, кто оказался слаб… А это означало, что в моей книге нельзя пройти мимо этого.
Между тем еще осенью мною по вдохновению был написан этюд о Санином следствии 1945-го года. Я отталкивалась при этом от его рассказов мне, от рассказа о своем следствии Глеба Нержина в «Круге» своему другу Рубину, от собственной интуиции. Показала этот этюд Константину Игоревичу (Смирнову, редактору её книги от АПН. – Ю.Т.). Тот оценил мое воображение, но посчитал такое описание следствия неприемлемым: у меня всё, решительно всё основано на документах и вдруг… фантазия!? Тогда я стала перечитывать первые тюремные письма своего мужа, вспомнила недоумение моей мамы при прочтении одного из этих писем: в нем Саня выражал радость по поводу того, что я… на свободе. И у меня родился другой текст».
А вот о том же, ещё более откровенно, в другом месте её книги:
«Тем временем заканчивалась подготовка моей книги к печати. (…) А тут ещё прибавилась необходимость осветить тему следствия Солженицына 45-го года. Дело в том, что по западному радио уже читался первый том «Архипелага», где была глава «Следствие». Редактор (К.И.Смирнов. – Ю.Т.) уверял меня, что я не имею права пройти мимо этой темы, и давал понять, что это отчасти является условием выхода моей книги. О своем собственном следствии Солженицын в «Архипелаге…» говорит очень мало, полунамеками. И у меня родился даже как бы исследовательский интерес. Я действительно не могла не верить Виткевичу, который приоткрыл мне в своих интервью поведение Сани на следствии».
Для сравнения, приведу и скупые строчки из первой книги Решетовской «В споре со временем»:
«А потом – тоже по радио – я узнала об интервью Николая Виткевича для американской газеты "Крисчен сайенс монитор" и мне пришлось взглянуть на давние события другими глазами и дать им другое толкование».
Итак, если суммировать все эти утверждения, Решетовская ясно даёт понять, что тема поведения Солженицына на следствии, в тюрьме и лагере была поднята ею в книге по инициативе и под давлением АПН. Соответственно, и оценка его поведения там тоже подгонялась под требования издательства, то есть стоящих за его спиной органов власти. Характер же этой оценки был заимствован Решетовской из услышанного перед тем интервью Виткевича.
Ну а сформулировать эту оценку именно в таком виде было уже делом техники. В ход пошло домысливание отдельных строчек из тюремных писем, смутных воспоминаний, случайных ассоциаций, поведения литературных героев из книг Солженицына.
Иначе чем фантазёрством такой анализ назвать нельзя. Доказать его ошибочность не представляет труда.
Вот как, например, Решетовская аргументирует своё утверждение, что Солженицын на следствии оговорил Виткевича:
«Перебираю пачку писем 1945 года. Вот и треугольничек. Перечитываю его в который раз (…). Ещё в том же письме: «…до сих пор не знаю, разделил ли мою судьбу сэр или нет?» Сэр – это Николай Виткевич. Как же так: в середине августа Солженицын не знает, арестован Виткевич или нет!.. А по версии «Архипелага» он уже в апреле или самом начале мая говорил Котову, тому самому подполковнику, что по делу их проходит двое».

Николай Виткевич (слева) и Александр Солженицын на фронте, 1943 г.
Из данного текста понятно, что Решетовская допустила логическую ошибку подмены тезиса, «увидев» несуществующее смысловое тождество между выражениями «разделил мою судьбу» и «проходит по тому же делу».
Солженицын под словами «мою судьбу» в своём августовском письме имел в виду не арест и следствие, а уже приговор, то есть итог дела. Под словом же «дело», в книге «Архипелаг ГУЛаг», он подразумевал именно процесс следствия, а не его результат (в тот момент, в апреле – начале мая, ещё не ясный).
А вот другое письмо, использованное как аргумент Решетовской:
«Саня буквально бомбардирует (сначала тётю Вероню – связь с ней установилась раньше, чем со мной) вопросами: где Кирилл? где Лида? что слышно о Николае? – «Отвечайте хоть коротко, самое необходимое…» «Десять дней с нетерпением жду известий». «От всей души желаю, чтобы Кока и Кирилл избежали моей участи…».
Почему мы должны были исчезнуть? Письма? Но в наших ничего не было… Почему такое беспокойство за нас в июле – августе? Ведь знал же ещё в мае, что "проходят двое", только двое».
На основании этих писем Решетовская безосновательно делает вывод об оговоре Солженицыным не только Виткевича, но и Симоняна, его жены Лидии и самой себя.

Однако приведённый здесь текст в действительности говорит лишь о том, что Солженицын хотел убедиться, что Виткевича посадили, а остальных – нет.
Вероятность осуждения первого следовала из общих с ним улик, а безопасность вторых – из усилий самого Солженицына, который, как он признавался позже в книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», свёл причины отсутствия в их письмах осуждения его выпадов против власти только к недовольству низкими стипендиями в вузах, не давая, тем самым, следствию повода «копать глубже» и обнаружить у них «неправильное» социальное происхождение, иметь которое в те годы было очень опасно.
Гораздо более серьёзными выглядят, на первый взгляд, доказательства оговора Солженицыным на следствии Л.В.Власова – морского офицера, с которым они болтали на политические темы, когда вместе ехали в поезде весной 1944 года, а затем изредка переписывались.
Доказательством этого Решетовская считала официальное письмо Виткевича, в котором он написал следующее:
«…Солженицын сообщил следователю, что вербовал в свою организацию случайного попутчика в поезде, моряка по фамилии Власов и тот, мол, не отказался, но даже назвал фамилию своего приятеля, имеющего такие же антисоветские настроения…».
А вот свидетельство самой Решетовской, приведённое ею в первой своей книге:
«О Власове действительно шла речь на следствии. Это я знала от мужа. Он рассказывал мне, что Лёня Власов «спас» себя письмом, которое пришло к Солженицыну в часть уже после его ареста и было переслано следствию. Письмо это капитан Езепов сам прочёл мужу. Там была фраза: «…не согласен, что кто-нибудь мог бы продолжать дело Ленина лучше, чем это делает Иосиф Виссарионович». Вот почему Власова даже не допрашивали! (…)
Вскоре я повидалась с Леонидом Владимировичем Власовым. (…)
…Власов говорит:
– Фамилия этого человека (приятеля Власова – Ю.Т.) Касовский. (…)
И стала более ясной картина, скупо обозначенная несколькими строками письма Виткевича:
«…конец протокола первого допроса. Следователь упрекнул Солженицына, что тот неискренен и не хочет рассказать всё. Александр ответил, что хочет рассказать всё, ничего не утаивает, но, возможно, кое-что забыл. К следующему разу постарается вспомнить. И он вспомнил».
Вспомнил «всё»… Вплоть до случайно услышанной фамилии».
А теперь разберёмся, что же следует из всей этой информации не по смутным догадкам Решетовской, а по правилам логики.
Из письма Виткевича ясно, что про Власова и Касовского Солженицын «вспомнил» на втором допросе, который состоялся аж 5 апреля (через два месяца после ареста). Между тем, Решетовская свидетельствует, что письмо Власова Солженицыну прочёл сам следователь Езепов. Это не могло случиться на первом допросе (26 февраля), когда речь о Власове вообще не шла. Значит – на втором, то есть на том же, на котором Солженицын «вспомнил» про него.
Ни Решетовская, ни Виткевич не поясняют, что чему предшествовало – чтение письма воспоминанию, или воспоминание чтению письма.
Логика подсказывает, что, получив из части письмо Власова Солженицыну, Езепов обязан был допросить Солженицына об этой переписке. Следовательно, Солженицын не «вспомнил» о Власове, а рассказал про него, отвечая на вопросы следователя. И прочитать письмо Власова Солженицыну Езепов мог, по правилам следствия, только после того, как выудил у него всю информацию об их знакомстве.
Вполне возможно, что в письме Власова был упомянут и Касовский, о котором шёл разговор в поезде, поэтому Солженицын принуждён был сказать Езепову и о нём.
Итак, обвинение Солженицына в оговоре Власова и Касовского не имеет серьёзных оснований. Ни тот, ни другой не были после этого арестованы.
Влияние АПН выразилось также в удалении из книги Решетовской всего, что прямо или косвенно говорило в пользу Солженицына и могло помешать дальнейшей его дискредитации.
Так, например, в процессе сокращения рукописи до размеров, предусмотренных договором, редакторами было полностью удалено описание выхода подразделения Солженицына из окружения под Кенигсбергом, что позволило в будущем КГБ сочинить и широко распространить мифы о его трусости, дезертирстве и, даже, плене, с последующей вербовкой гестапо.

Цитата из книги Решетовской «АПН – я – Солженицын»:
«Очень сожалею, что при сокращении моей книги вся история с окружением была изъята. Сожалею тем более, что это дало возможность в будущем толковать то самое окружение ложно».
Было удалено и немало другого материала. Это заметил тогда в своём отзыве на книгу даже заведующий кафедрой русского языка Эссекского университета Джон Хоскин. Вот как оценила его выводы в своей последней книге Н.Решетовская:
«Он проявил большую осведомленность относительно моих публикаций; ему были известны две моих главы, помещенные в самиздатском журнале «Вече». И он сравнивает их с моей изданной книгой – отнюдь не в ее пользу.
Проведенный им анализ мне очень дорог, хотя я и не со всем здесь согласна: «…при чтении раздела, посвященного «Ивану Денисовичу», выясняется, что в нем нет никакого сходства с главами, первоначально напечатанными Самиздатом. Из него изъят весь ценный материал относительно трудностей, которые пришлось пережить автору во время переговоров с редакцией журнала «Новый мир» и с советской политической иерархией».
«Мне лично кажется, что кое-что из текста Решетовской сохранилось, потому что, несмотря на преобладающую горечь и осуждение, в некоторых ее словах все же чувствуется, что она уважает и любит Солженицына. Если бы этих слов в ее книге не было, нельзя было бы понять, как она могла посвятить 25 лет своей жизни человеку, характер и произведения которого она расценивает так отрицательно» (…)

«Однако, – пишет Хоскин в заключение, – мы не можем подойти к этой книге без крайнего скептицизма – другого выхода у нас нет. Как прискорбно, что личная трагедия Натальи Решетовской была столь неприглядным образом эксплуатирована».
Ну что ж! Я знаю еще и то, что не только АПН использовало Решетовскую, но и Решетовская использовала АПН. Я не могла молчать, не могла ждать «после смерти». А как, через кого еще доступно было мне говорить?!..»
Та часть книги, в авторство которой Решетовской не поверил Джон Хоскин, была действительно сильно изменена АПН при последнем редактировании. Об этом есть свидетельство самой Решетовской:
«Машинистка допечатывает окончательный вариант. Но последние три главы смутили главного редактора издательства АПН Жукова. Как потом я узнала, Жуков обложился моими материалами и заперся в своем кабинете. Три главы сузились до одной!».

Юрий Николаевич Жуков, историк-сталинист, в молодости работал в АПН.
Но содержание книги АПН корректировало в нужном ей духе и через своего редактора Семёнова в самом процессе работы над ней Решетовской.
Ему удалось полностью втереться к ней в доверие, притворяясь сочувствующим судьбе её бывшего мужа. Как писала она сама в последней книге:
«Беседы с редактором по-прежнему давали мне очень много. Я имела дело с умным, интересным, очень эрудированным человеком, опытным редактором, обладающим феноменальной памятью и к тому же симпатизировавшим моему герою. Его, например, умилял выдвинутый Саней проект нашей «коммуны» (Саня предлагал жить в Москве всей нашей студенческой пятерке друзей после окончания университета, а следователем это было расценено как попытка создать организацию, что и вылилось в дополнительный, 11-й пункт 58-й статьи УК). (…)
Я встретила его понимание даже там, где меньше всего, казалось, могла ждать. Например, рассматривая вопрос о «виновности» Солженицына, Константин Игоревич сказал следующее: «Конечно, Саня не был виноват. Он был осужден совершенно несправедливо. Их переписка, их разговоры с Виткевичем были мальчишеством и никакой опасности для государства не представляли. Серьезно говорить об антисоветизме Солженицына в то время нельзя. Просто было такое время, вот их и арестовали!» (…)
Подчас Константин Игоревич высказывал свежие мысли, находил удачные формулировки, которые я охотно принимала. (…) Но особенно важным и успокаивающим было то, что на том этапе работы над книгой я ощущала его как своего союзника. А потому обидно было, что «вечевцы» не допускали мысли, что редактирование может не быть тенденциозным, направленным против Александра Исаевича. Я же, казалось, убеждалась все больше, что они были неправы».
Лишь уже после публикации книги она заметила слишком вольное отношение своего редактора к точности сведений о Солженицыне.
«Я стала понимать, что отношение к материалу у писателя и редактора совершенно различное, и оно отнюдь не украшает последнего. Итак, в наши отношения с Константином Игоревичем вошли элементы недоверия с моей стороны».
Напоследок, стоит привести здесь отрывки из последней книги Решетовской, касающиеся книжки Кирилла Симоняна «Ремарка», тоже ставшей источником ряда клеветнических мифов о Солженицыне.
«Я пыталась в свое время отговорить Кирилла от публикации статьи, пыталась убедить в неправоте его «теории», будто Саня сам «устроил» себе арест с целью сохранения своей жизни, для чего и писал компрометирующие его письма. Я предлагала Кириллу прийти ко мне, чтобы почитать Санины письма военных лет, убедиться в его искренности, в его сверхпатриотизме того времени».

«В последний раз Лида (бывшая жена К.Симоняна Лидия Ежерец. – Ю.Т.) виделась с Кириллом весной, когда он дал ей почитать свою «Ремарку». Лида очень тогда взволновалась. Она совершенно не помнила того, о чем писал Кирилл: будто они однажды получили от Сани письмо резко антисоветского содержания и были, как писал Кирилл, очень удивлены, считая Саню трусом, и в то же время перепуганы, ибо на конверте стоял штамп военной цензуры. Лида была так взволнована, прочтя все, о чем написано было в «Ремарке», что не могла после этого ни позвонить Кириллу, ни увидеться с ним. Дело в том, что Лида была тяжело больным человеком, боялась инсульта, от которого погибли все родные, избегала излишних волнений.
– Наташа, – спросила Лида с горечью, – зачем он это сделал?..
– Вероятно, обида, а может, и зависть, – ответила я Лиде.
В самом деле, с одной стороны – показания Сани на следствии и позже в отношении Кирилла; с другой – литературный талант у Кирилла был не меньше Саниного. Только кто же виноват, – думалось мне, – что у Кирилла не было других Саниных качеств, без которых невозможно было достичь той писательской высоты, на которую взобрался Саня? Тут и воля, и трудолюбие, и целеустремленность, и самодисциплина… «Саня – великий работник», – вспоминаются мне слова Николая Ивановича Кобозева…»
Миф 1
Классовая ненависть Солженицына к социализму
Причиной написания А.И.Солженицыным Архипелага ГУЛАГ и других антисоветских работ его критики чаще всего считают наследственную классовую ненависть к социалистическому строю, поэтому с неё и начнём.
Начало данному мифу было положено в 1976 году. Вот что писал о нём сам Солженицын.
«В марте 1976 «Литературная газета» печатала против меня большую статью «Без царя в голове» – и уже там был весь этот наворот: что мой дед, мужик Семён Солженицын, был некий крупный феодал, известный в округе своей жестокостью, и с фантастическими владениями в 15 тысяч гектаров, – тем не менее один его сын почему-то грабил на дорогах с помощью аркана, кастета и кляпа, а другой его сын, мой отец (самых либеральных воззрений), не вынес падения монархии и кончил самоубийством. (…)
Теперь (1977 г. – Ю.Т.) узнаю, что коллектив чиновников и перьев не только не дремал, но занялся, наконец, непримиримым и окончательным моим изничтожением. Такой методической научной работой: подменить этого Александра Солженицына от предков до потомков. Как переклеивают клетки мозаики, сменить все клетки до единой – и взамен выставить искусственного мёртвого змея из составленных чешуек. Переклеивали – не ленились. Сменён мой дед, сменён отец, сменены дядья, сменена мать, лишь затем сменены дни моего детства и юности, и взростности, подменены все обстоятельства, все мотивировки моих действий, детали поведения – так, чтоб и я был – не я, и жизнь моя никогда не была жита. И уж конечно, подменён смысл и суть моих книг – да из-за книг всё и затеяно, не я им нужен.
И вот, наконец, их исследование появилось отдельной книжкой (на обложке неся, как на лбу, двойное, для верности повторенное, жёлтое тавро).

Автором указан Ржезач (иностранец, хорошо!), издательство «Прогресс», ускоренный пролёт через типографию (от сдачи в набор до подписания к печати 10 дней), а тираж – скрыт, может быть, ещё и не решён, как не решена и цель: рискнуть ли продавать советским читателям (и тогда внедрить в их умы заклятое имя)? Пока решили распространять через спецотделы среди столичной публики, которая всё равно уже порчена, имя моё знает. (…)
Так кто же этот Ржезач? Это – чех и отчасти даже диссидент: в 1967 будто присутствовал при чехословацком бунтарском писательском съезде, в 1968 вместе с вольнолюбивыми чехами хлынул в эмиграцию (тогда ли уже имея задание от ГБ или попозже его получив), вместе с ними семь лет негодовал на советскую оккупацию, затем исчез в одну ночь из Швейцарии, а через сутки выступал по чехословацкому радио, понося эту эмиграцию и деятелей её, и все подробности её жизни. По-русски это называется: перемётная сума. Собственно, для понимающих людей, рисунок автора уже и закончен.
Однако этот ржец, этот лжец пишет книгу, оказывается, не как посторонний учёный биограф, но … «принадлежал к узкому кругу друзей Солженицына, более того, был его сотрудником. Достаточно хорошо узнав писателя…», и сочинив много тетрадей под названием «Беседы с Солженицыным» (есть такая сноска у него, стр. 108), оттуда уже сам себе приводит «цитаты».
Вот, привыкай не привыкай к чекистским ухваткам, а до конца всё равно не привыкнешь! Ну всё-таки, не может же человек придумать знакомство, если его вовсе никогда не было?
Но что правда – очень он добивался познакомиться. (…)
Так мой «сотрудник по Цюриху» чего совсем не берётся рассказать – это о Цюрихе.

Зато обо всей остальной моей жизни – лавину. Правда, извините, не по порядку: что-то «мне не захотелось писать биографию такого низкого человека, как А. Солженицын. И несколько изменив литературную форму… я отказался следовать строгой хронологической последовательности».
О да, конечно. Так – насколько же легче!
Ось времён – это непроглотный стержень, его не согнёшь, не угрызёшь, не пропустишь, вечно привязан к этим точным датам, точным местам, пришлось бы описывать совсем ненужные периоды – как этот Солженицын выбивался на фронт из обоза или как умирал в раковом корпусе, ссыльный и одинокий.
И Сума избирает такой приём: поэтический хаос. Одни и те же эпизоды в разодранном виде разбросать по разным частям книги, чтоб их казалось много похожих и не было бы охотников взяться за труд – снова их собрать и сопоставить. И одни и те же заклинания в разных местах повторять и повторять для убедительности. На свободе от хронологии и системы – все построения Сумы.
Но упрощая задачу читателю, выделим всё главное, что удалось ему открыть:
1. Дед – грозный тиран округи, таинственно исчезнувший.
2. Отец – белогвардеец, казнённый красными.
3. Дядя – разбойник.
4. Солженицын рос с детства припадочный.