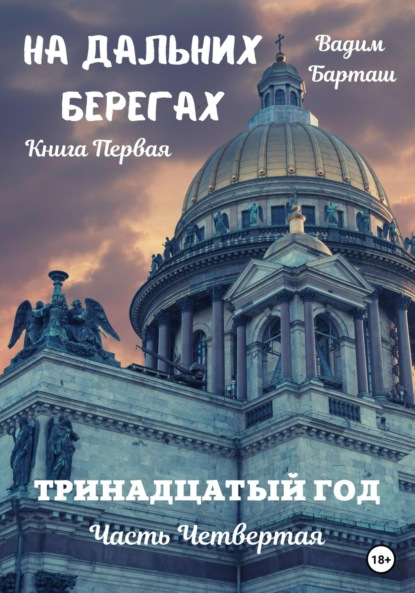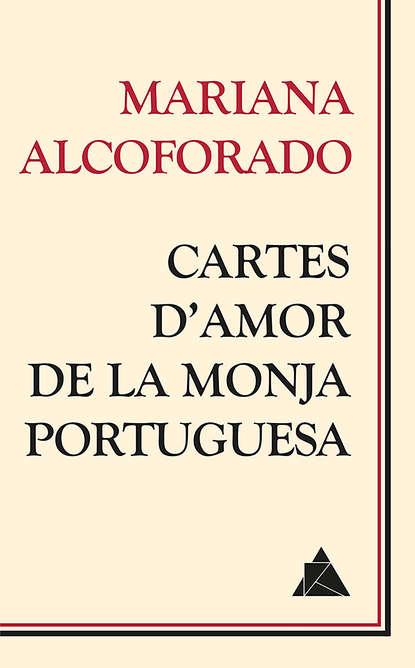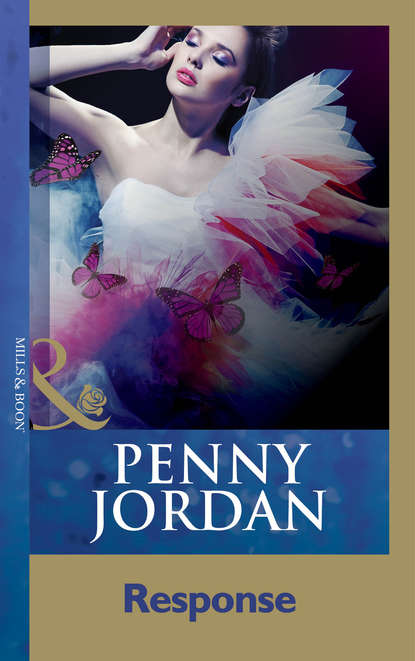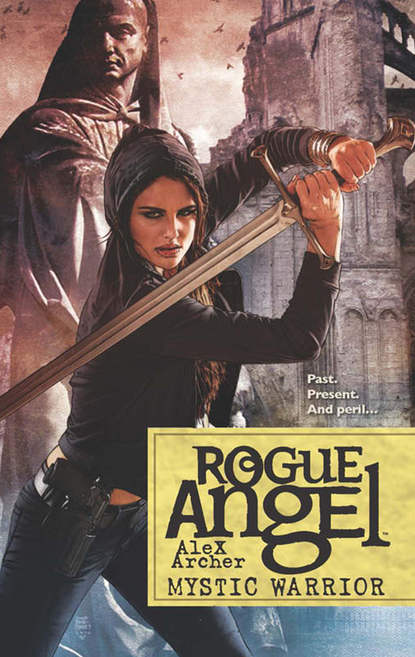За гранью: путь

- -
- 100%
- +

Глава 1 Пол года тишины
Когда календарь в городской ратуше в очередной раз перевернули на новый месяц, я поймал себя на том, что считаю не дни, не недели, а именно месяцы – от того вечера, когда Фольк вернулся с орочьей границы и рассказал о разрывах.
С тех пор прошёл уже почти полный круг времён года. Тогда под ногами была грязь и талый снег, теперь земля подсыхала, и ветер тянул в окна запах влажной почвы и дыма от первых костров, на которых жгли прошлогодний сор с полей.
Демоны за это время ни разу не показались у наших границ. Ни одной чёрной трещины на небе над нашими лесами, ни одного крика, от которого вянет душа, ни единого следа тех тварей, что рвали орков. И именно это раздражало сильнее всего. Если бы беда уже стояла у ворот, было бы понятно, что делать. А так она словно застыла чуть поодаль, как тёмное пятно на горизонте: не подходит ближе, но и не исчезает.
Я сидел в своём зале, глядя на стол, заваленный бумагами, и внезапно ясно понял очень простую вещь: всё, чем я занимался последние полгода, выросло из одного‑единственного вечера – того, когда я сел за этот же стол и впервые за долгое время сам взял в руки перо.
До этого мне всегда удавалось отговориться. «Пусть пишет кто‑то из писарей», «подготовим черновик, а я только подпишу». Но в тот раз никакой писарь не мог заменить меня. Слишком важно было не только, что будет написано, но и от кого.
Передо мной лежали три чистых листа пергамента. Каждый – для своего адресата. От того, что я напишу на них, зависело, как мир отреагирует на весть, которую не хотелось признавать самому: демоны у орков – это не очередная легенда из монастырских хроник, а факт.
Я хорошо помню, с какого письма начал.
### Магистерий: тем, кто знает, что такое демоны не по картинкам
Руку к первому листу я потянул почти автоматически. Писать Магистерию было, как ни странно, проще всего. По крайней мере, там сидели люди, которые понимали, что я описываю, и могли отличить слух от наблюдения.
Я неторопливо вывел обращение к Совету, к их вечным «досточтимым», а дальше уже не стал выстраивать витиеватые фразы. Никаких «невыразимой тьмы», «страшной кары» и прочих штампов, которыми любят украшать проповеди. Только то, что видел Фольк и его люди.
О том, как они шли по старой его тропе, ожидая привычных орочьих засад, а вместо этого попали в странную, мёртвую тишину. О том, как дошли до первого сторожевого камня, который орки годами мазали своим ядовито‑чёрным составом и обвешивали костями, – и не нашли там ничего, кроме чёрной ямы, будто сам мир кто‑то выжег горячим железом. О том, как деревья стояли обугленные, но не дотла – как факелы, которые кто‑то погасил на полпути.
Я описал пустые орочьи лачуги, в которых не осталось ничего живого, но на стенах засохли потёки крови, а в древесине застряли следы когтей, как будто кто‑то с яростью рвал сам дом. Написал про чёрные, жирные пятна на земле, которые Фольк не смог назвать ни сажей, ни маслом, ни кровью – что‑то другое, нездешнее.
И, главное, я постарался передать то, из‑за чего у меня самого в груди похолодело, когда Фольк рассказывал: те самые разрывы. Я не знал, как их правильно именуют в магических трактатах, поэтому и написал по‑человечески:
«Трещины в воздухе, идущие вертикально, как рваные шрамы. Из них виден не “иной мир”, как в описаниях классических врат, а только плотная тьма, сквозь которую время от времени вырываются твари. Формы их нестабильны, но общее – в искажённости тел, избытке когтей и зубов и наличии дымоподобной ауры огня».
Я рассказал и о том, что орки там делали. Не как «звери, бьющиеся в ярости», а как воины, дерущиеся в строю. Про их щиты, поставленные стеной, про копья, упирающиеся в грязь, про боевые крики, которыми они неслись на то, чего боялись не меньше нас. Про то, как они гибли, но, пока хотя бы один стоял, твари не могли продвинуться дальше. И про наш собственный неосторожный вмешательство, про случайный выстрел Тило, который сорвал равновесие в один миг.
В самом конце письма я заставил себя сформулировать вещи, из‑за которых любой уважающий себя маг мог бы взорваться от негодования. Я не просил: «Придите и спасите нас». Я просил трёх очень конкретных вещей. Признать угрозу официально. Дать указания, что можно и чего нельзя делать силами баронства рядом с разрывами. И, главное, рассмотреть вариант временного отказа от войн с орками, которые в данный момент были, нравится нам это или нет, стеной между демонами и нами.
Подписал я письмо ровно и чётко, поставил печать, а рядом – то самое условное обозначение, о котором договорился с Винцелем, когда он приезжал к нам: знак динамической угрозы. Три коротких линии, перекрещенных под острым углом. «Не паника, но и не пустяк».
Когда свиток запечатали, я отложил его в сторону и посмотрел на второй лист.
Король.
### Королю: о демонологической дыре человеческим языком
Писать магам о демонах было делом техники: описываешь явление, они сами знают, чего в этом бояться. А вот королю нужно было говорить иначе. Король, конечно, видел магию – кто‑то из придворных его время от времени радовал иллюзиями и огненными шарами. Но для него мир всегда сводился к трём вещам: людям, деньгам и земле. В этом, кстати, тоже была своя логика.
Я начал с того, что напомнил, кто я такой, и подчеркнул: обращаюсь не как провинциальный барон, который хочет выбить очередную льготу, а как человек, непосредственно отвечающий за кусок границы королевства. Абстрактные формулы про долг и честь я отбросил, оставив только то, что нельзя обойти.
Дальше – никаких магических терминов. Я рассказывал о том же, что и в письме магам, но вместо «аномалий» и «порталов» писал: «чужая дыра в мире, через которую лезет то, что пытается всех убить».
Особое внимание уделил трём вещам. Во‑первых, орки действительно сдерживают удар, несут потери, но держатся. И пока они стоят, демоны не идут к нам. Во‑вторых, если орки падут, следующими в этой мясорубке окажемся не Магистерий и не столица, а те самые пограничные земли, которые король привык воспринимать как дальнюю строку в налоговой книге. В‑третьих, если сейчас по всей стране разнесётся весть о «конце света», сперва рухнут не стены крепостей, а сеялки в полях и цены на хлеб.
Я честно написал, что не имею права требовать от короля конкретных действий, но имею право и обязанность донести до него, что происходит. И позволил себе, как мне тогда казалось, почти смертельную дерзость: фразу о том, что история спросит и его, и меня, если мы проигнорируем очевидную угрозу.
Когда пергамент с королевским обращением был исписан, я поймал себя на том, что сижу, сжав руку в кулак, и с трудом разжимаю пальцы. Странное дело: иногда проще отдать приказ, от которого зависят чьи‑то жизни, чем написать вежливое письмо.
Оставался третий лист.
### Соседи: говорить с людьми, а не с титулами
С баронами фон Мельцем и Людвигом из Кригшталя я за это время уже успел познакомиться достаточно, чтобы понимать, как с каждым говорить. Оба – дворяне, но похожи друг на друга не больше, чем кузнец на ростовщика.
Мельц был прямым, чуть грубоватым, с явной военной жилкой. Он уважал силу, ясность и умение держать слово. Ему я писал так, как говорил бы на пиру, если бы стол между нами был завален не мясом, а картами.
Я не стал делать вид, будто открываю ему небо. Написал прямо: твои люди, скорее всего, уже принесли тебе те же вести, что мои. Демоны у орков – не слух, а факт. Орки дерутся, и пока дерутся – служат нам живым щитом. Если мы будем в это время стрелять им в спину, щит может развалиться, а обломки прилетят нам в лицо.
Дальше – конкретика. На время, пока орки держат линию, не посылать к ним грабёжные отряды. Следить за границей, бить тех, кто сунется к нам, но не лезть лишний раз на ту сторону. И обмениваться сведениями, если у кого‑то из нас на северной стороне вспыхнет что‑то необычное.
В письме Людвигу я, напротив, чуть приподнял тон, больше внимания уделив форме. Этот человек слишком дорожил тем, чтобы выглядеть прилично в глазах короля и соседей, но внутри у него давно всёяло и трещало от долгов. Ему я мягко напомнил о его статусе, о нашей общей вассальной зависимости от короны, о важности «согласованных действий в непростое время». Не стал напрямую обвинять его в глупых набегах, но довольно ясно написал, что любое ослабление орочьих племён сейчас играет на руку не нам, а тем, кто лезет через разрывы.
Оба письма получились разными, но с одной и той же мыслью: враг, который сегодня стоит между нами и бездной, всё ещё враг, но убивать его прямо сейчас – всё равно что выдернуть брусья из моста, по которому ты сам ещё идёшь.
Когда я наконец отложил перо и посмотрел на три запечатанных свитка, стало ощущение, словно я отмахал не одну страницу, а несколько миль с полным доспехом. Но это было только начало.
### Ожидание ответов и полгода между строк
Ответы пришли не сразу. Мир большого уровня живёт медленно, особенно когда ему нужно признать, что под боком творится что‑то, не вписывающееся в привычные отчёты.
Первые недели после отправки писем я ловил себя на том, что каждая весть, каждый гонец, въезжающий в ворота, каждая чужая печать на конверте заставляет сердце биться быстрее. Но во дворе по‑прежнему ходили телеги с углём, на лестнице по‑прежнему путались ученики Элин, а по ночам по‑прежнему гудел молот Лотара. Жизнь шла, словно ничего не изменилось. Только где‑то внизу постоянно шевелилось ощущение, что мир уже стал другим.
Первым отозвался Магистерий.
Однажды утром во двор въехала знакомая повозка с синим гербом магической канцелярии. Курьер был тот же – молодой, когда‑то самодовольно прищуренный человек, который привозил нам первый артефакт прояснения. Теперь этот прищур сменился более сдержанным взглядом; кто‑то в столице успел объяснить ему, что не все «провинциальные барончики» одинаково глупы.
Мы прошли в зал. Он сдержанно поклонился и протянул мне тубус с печатью Совета. Печать была крупная, тяжелая, синего воска, с врезанными в него знаками стихий. Я сломал её и начал читать.
Формально письмо выглядело так, как и положено документу, вышедшему из‑под руки нескольких магистров: длинные обороты, аккуратные формулировки, осторожные выводы. Но, если выжать из этих завитков воду, отправленный мне текст можно было пересказать совсем несложными словами.
В Магистерии знали. То, о чём я писал, уже приходило к ним с других концов. Где‑то на севере, где‑то восточнее нас, но обязательно в районе орочьих земель, кто‑то ещё видел разрывы и демонов. Кто‑то погиб, кто‑то успел вернуться и сказать.
Официально они признавали: да, по периметру орочьих территорий в нескольких местах наблюдаются явления, сходные с теми, что я описал. Да, из этих очагов выходят сущности демонической природы. Да, орочьи племена несут основную тяжесть сопротивления. При этом дальше следовала большая, жирная «но».
Магистерий пока не собирался бросать в эти очаги все силы. По их словам – и я частично понимал их логику – слишком масштабное магическое вмешательство могло всё только усугубить. Неправильно подобранный ритуал, неучтённые влияния, грубая попытка «захлопнуть дыру» силой могли расширить разрыв, как слишком резкий рывок расширяет трещину в стекле.
Поэтому сейчас, писалось в письме, главной линией был «анализ и наблюдение». На сухом языке бюрократа это значило: «Мы смотрим, думаем, спорим и посылаем туда небольшие отряды боевых и исследовательских магов – аккуратно, по одному, а не всем составом».
Дальше шли рекомендации. Воздержаться от серьёзных экспериментов с магией в полосе земли шириной в пару десятков вёрст от границы с орками, чтобы не шарахнуть лишнего по уже и так напряжённой ткани мира. Укреплять оборону своих земель, не разводить панику, но быть готовы к тому, что ситуация может измениться. И – самое для меня важное – признание того, о чём я им и писал: орочьи земли сейчас, с точки зрения магов, выполняют функцию буфера.
Чуть ниже шла фраза, в которой под тоннами осторожности проглядывало живое решение: Совет Магистерия намерен обсудить с короной возможность временного пересмотра статуса орочих территорий – с враждебных на «особые буферные зоны». Это, конечно, было не «мы объявляем орков нашими лучшими друзьями», но в их языке и так формулировка означала очень много.
К письму была прикреплена небольшая записка, написанная другим почерком. Она пахла больше личным словом, чем официальным ответом. Винцель, тот самый маг, с которым я когда‑то спорил у колодца, писал коротко и прямо. Он благодарил за подробности, говорил, что внутри Совета есть люди, которым моя прямота пришлась по вкусу, и такие, которые от неё блюют. Напоминал не лезть к разрывам самому и не пускать туда всяких безумных пророков. И добавлял, уже почти не по правилам: «Если заметите хоть что‑то похожее у себя – кричите сразу. Я попытаюсь сделать так, чтобы к вам пришли те, кто умеет думать, а не только размахивать посохами».
Когда я дочитал и отложил свиток, поймал себя на странном ощущении. С одной стороны – облегчение: я не одинок в своих страхах, мир всё‑таки отреагировал. С другой – неприятное щекочущее раздражение: те, кто мог бы больше всех повлиять на судьбу разрывов, выбрали привычную позу наблюдателей.
С ответом короля всё вышло ещё интереснее.
### Король: благодарность, указ и золотой крючок
Королевское письмо шло дольше. В отличие от магов, которые умели, когда надо, действовать быстро, королевская канцелярия была механизмом тяжёлым. Пока писарь переписывает черновик, пока старший проверит каждую букву, пока первую версию отнесут тому, кто правит не страной, а кругами придворных… Время утекает.
Когда в замок прибыл королевский эмиссар, за окном уже вовсю шумела ранняя весна. Он появился так, как любят появляться люди из столицы: не один, а с небольшим, но нарядным эскортом, с две лишних повозки вещей, с лошадьми, которые явно привыкли к мощёным улицам, а не к колеям просёлков.
Эмиссар представился Генрихом фон Лаутеном. Его манеры были безупречно вежливы, голос мягок, взгляд – внимателен. В нём было и то самое лёгкое превосходство «столичного», и ощутимое умение слушать. Такие люди обычно выживают при любом правителе.
Мы уселись в зале, он развернул свиток с большой королевской печатью и начал читать вслух, хотя я и сам мог прочесть. Таков был порядок: слова короля должны звучать.
Король благодарил меня за бдительность. Это звучало почти искренне, насколько вообще искренними бывают обращения, написанные чужой рукой. Далее следовал короткий пересказ того, что донесли до столицы не только мои люди, но и другие. Я поймал в тексте знакомые обороты и понял: какие‑то части моего письма легли в основу целого набора докладов.
Король признавал: у орков действительно творится нечто, что нельзя назвать очередной стычкой. Демоны существуют не только в книгах, и их прорывы – не вопрос одной деревни. Корона, говорил свиток, «внимательно наблюдает за развитием событий», готова «предпринять необходимые меры для защиты своих подданных» и «рассчитывает на благоразумие своих вассалов».
Звучало бы это как обычная формальная отписка, если бы не один абзац в середине. Там, аккуратно, с теми же гладкими словами, которыми обычно прикрывают казни и новые налоги, говорилось о введении чрезвычайного сбора. По сути – о том, что с этого года каждое баронство должно будет заплатить короне на десятую часть больше, чем раньше.
В письме объяснялось, на что пойдут эти деньги: на усиление гарнизонов северных крепостей, на оплату магам, которых привлекут к исследованию и, по возможности, сдерживанию угрозы, на создание продовольственных запасов. Всё выглядело логично. Но от того, что логика есть, монеты легче не становятся.
Я оторвался от свитка, посмотрел на Генриха.
– “Временный сбор”, говорите? – протянул я. – У вас в столице есть особое понимание слова «временный»?
Он не смутился, только чуть поджал губы в подобии улыбки.
– Сбор введён на время, пока Его Величество и Совет не сочтут угрозу иссякшей, – ответил он честно. – Я не стану вас обманывать: подобные “временные” меры иногда задерживаются надолго. Но сейчас, барон, это действительно не прихоть. Страна тратится.
Он достал из тубуса ещё один, поменьше, свиток, и протянул мне. В этом документе уже не было красивых фраз. Там цифры шли за цифрами, крепости – за крепостями. Конкретные суммы, направленные в те или иные гарнизоны, суммы контрактов с Магистерием, расходы на ремонт северных укреплений. Я потратил время, не полагаясь на первое впечатление, и пересчитал всё в уме. Выходило, что король действительно вкладывает больше, чем собирается взять с нас сверху. Не на много, но всё‑таки.
– Хорошо, – сказал я, сворачивая свиток. – Я не стану отрицать право короля брать налог на войну. Но предупредить я обязан: если я просто перекладываю эту десятину на плечи крестьян, через пару лет у меня боеспособных мужиков останется меньше, чем вам нужно. И воинов вы потом будете собирать по кладбищам.
Генрих чуть склонил голову.
– Как вы добудете эти деньги, барон, – дело ваше, – отозвался он мягко. – Корона требует только одного: чтобы они дошли вовремя и полностью. В остальном… вы сами знаете свою землю лучше нас.
Он помолчал, а потом, как бы между делом, добавил:
– Ваше письмо, кстати, произвело впечатление. В столице о демонах до этого говорили больше как о чём‑то удобном для проповедей. Вы же описали их не как карающее чудо, а как дыру в системе. Это заставило кое‑кого из старых вельмож наконец посмотреть на карту, а не в бокал.
Я усмехнулся.
– Страшнее всего для придворных, значит, не чудовище, а цифра, которая не сходится?
– Вы недалеки от истины, – с той же лёгкой улыбкой согласился он.
Когда эмиссар, отобедав и обменявшись со мной вежливыми пустяками, уехал, я долго стоял у окна, глядя на то, как по двору ходят телеги, как бегают мальчишки, как на реке крутится водяное колесо. В руках у меня было два свитка, которые означали одно: деньги, которых и так не хватало, придётся выцарапывать из ещё более твёрдой земли.
Но оставлять угрозу без ответа я тоже не мог. Если король собирался вкладываться в оборону страны, было бы глупо сыграть в оскорблённую невинность и отказаться. Пришлось сесть за стол знову, уже не для писем, а для подсчётов.
Считать я умел. И умел смотреть на цифры не как на абстракцию, а как на людей за ними. Когда мы с Хансом разложили на столе все книги доходов и расходов, у меня замелькали перед глазами не просто строки «подать с деревни такой‑то», «доход от лесопилки», «аренда лавок», но лица: упрямый Эрнст с его коровами, Лотар, стучащий молотом до ночи, староста, у которого дом вечно перекошен потому, что каждый год его подмывает, и он всё не может собрать людей на ремонт.
Корона требовала десять процентов сверх прежнего. Это вроде бы немного, если смотреть с высоты тронного зала. Но для того, кто живёт на грани, каждые десять сверху могут стать тем камнем, который перевешивает весы.
Первое и главное решение было простым: тянуть эти деньги только с крестьян – значит выстрелить себе в ногу. Без корней не держится ни одно дерево, каким бы красивым оно ни казалось сверху. Значит, придётся резать не только по низам.
Мы с Хансом по несколько вечеров подряд сидели до темноты, считали, перекладывали, спорили. Поначалу он пытался было предложить самое привычное: чуть‑чуть поднять общую земельную подать. Я спросил, на сколько – он ответил, мы прикинули, и сразу стало понятно: два урожая подряд без сбоев – и, возможно, крестьяне выдержат. Один неурожай – и всё посыплется.
Тогда мы пошли другим путём. Для начала пересмотрели, сколько кто платит. Не в теории – на практике. Выяснилось много интересного. Одни из земель тянули всё, что могли, другие – жирели на том, что их держали за бедные. Там, где люди вкладывались в поля, расширяли пашню, чинили орудия, – уже и так платили нормально, и вытаскивать из них ещё больше было бы сродни самоубийству. Зато нашлись куски хорошей, удобной земли, где поколениями ленились пахать по‑настоящему. Этих решили слегка встряхнуть. Не так, чтобы разорить, но достаточно, чтобы смысл в том, чтобы держать землю пустой, исчез.
Следующий шаг оказался естественным: купцы. Годами они пользовались нашими дорогами, мостами, рынком, воротами, а платили так, словно делали одолжение. Мы аккуратно пересчитали, что даёт торговый поток, который идёт через наше баронство. И поняли, что повышать пошлины можно не ломясь, но уверенно. Добавив по капле за проезд повозки, за складирование товара, за охрану караванов, можно было собрать приличную сумму. Тем более что после наведения порядка с бандитами и казни нескольких слишком наглых купцов наш тракт начал пользоваться куда большей популярностью: через нас стало реально безопаснее ездить.
Мы немного подняли арендную плату за самые выгодные лавки в городе – те, что отошли казне после конфискации имущества Крамера и его дружков. Новые арендаторы уже успели подняться на их месте, и платить они были в состоянии. Пара особо жадных пыталась жаловаться, но, увидев вдалеке всё те же виселицы, быстро сникла.
Самым неприятным этапом стало закрытие дыр коррупции. Ханс с Конрадом подняли все недавно заключённые соглашения, сравнили цифры и выстроили цепочку, по которой текли деньги. Выяснилось, что в город по‑прежнему приходят некоторые суммы «мимо» книги. Мы не стали устраивать из этого очередное показательное шоу, как с тремя купцами, но нескольких человек приняли тихо, с фактами на руках. Кто‑то лишился должности, кто‑то – свободы. Важнее было другое: через пару недель после первых посадок «мимо»-деньги резко схлопнулись.
В самом конце нам пришлось резать по себе. Пару задуманных приятных, но не срочных строек я отложил. Можно было ещё подождать с расширением верхних покоев замка, с украшениями для зала, с новой башней для лучников. Люди должны были видеть, что барон режет не только чужое.
Когда через несколько месяцев королевскому сборщику пришлось проверить наши книги, он вынужден был признать, что сбор внесён целиком. Деньги уходили в столицу, а у меня в груди слегка ныло от каждого золотого. Но одновременно было странное чувство: да, я заплатил. Но сделал это не так, чтобы завтра на моих полях стояли одни пни.
Пока я разбирался с магами и королём, у соседей тоже не всё стояло на месте.
От фон Мельца сначала пришёл суховатый ответ. В нём не было извинений, не было «вы оказались правы», но было главное: признание фактов. Он писал, что его люди действительно видели то, о чём я рассказывал, что орки дерутся, а не прячутся по норам, что земля дрожит от их боёв, но демоны пока не уходят за пределы определённых участков. Мельц честно признал, что не любит орков и не собирается поить их медом, но в одном с нами согласен: стрелять сейчас им в спину – глупость. Поэтому он прекращал свои рейды вглубь их земель, сосредотачивался на укреплении своей стороны и был готов обмениваться со мной вестями, если у кого‑то из нас что‑то изменится.
Через пару недель мои люди, прошедшие вдоль его границ, подтвердили: часть его отрядов действительно отошла от орочьей полосы. На холмах выросли новые деревянные башенки, вокруг деревень тянулись недостроенные, но уже заметные валы. В целом, кажется, фон Мельц выбрал путь разумного оборонца. Это внушало осторожное уважение.
Письмо от Людвига было совсем иным. На пергаменте ветвились красивые фразы, он щедро рассыпался вежливостями, называл меня «дальновидным», «бдительным», благодарил за «драгоценные сведения». Но под слоем любезностей читалась простая мысль: демоны далеко, орки – всё те же враги, а бароны, которые пугают других страшилками из‑за гор, явно преувеличивают.
Отдельной строкой Людвиг уверял, что у него всё под контролем, границы надёжно защищены, а набеги носят «исключительно ответный характер». Я бы, может, и поверил хоть части его слов, если бы через какое‑то время люди Готлиба, вернувшиеся из Кригшталя, не принесли совсем другие новости.
Оказывается, у Людвига всё трещало. Урожаи последние два года были хуже, чем обычно, при этом он не уменьшал налоги, а, наоборот, добавлял, пытаясь закрыть дыры в долгах перед купцами. Часть дворян у него была недовольна тем, что добычи в набегах стало меньше, а требования – больше. Народ в нескольких деревнях уже поднимал голос, и его глушили виселицами и кнутами. Набеги на орочье пограничье, вопреки моим советам, не только не прекратились, но даже участились: любое кострище вдалеке Людвиг, похоже, воспринимал как удобный повод урвать что‑нибудь.
Это было его дело – до поры до времени. Но я не мог не думать о том, что ослабленные его набегами орки хуже держат линию против демонов. А слабые места у общего заслона – это не просто его проблема.