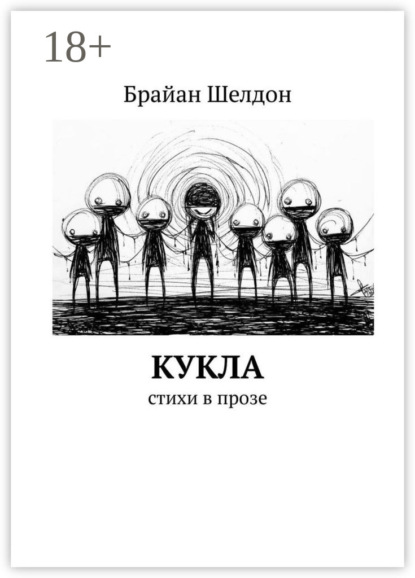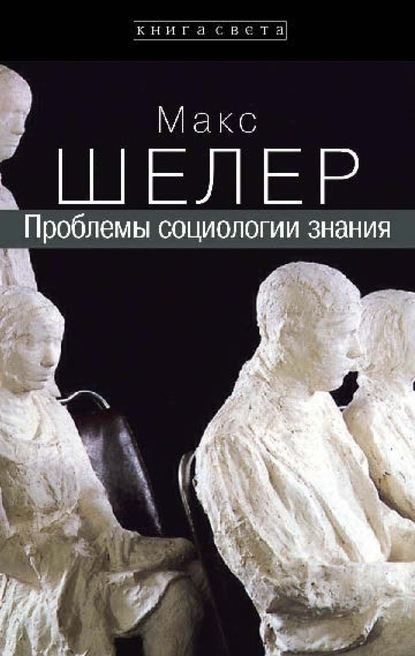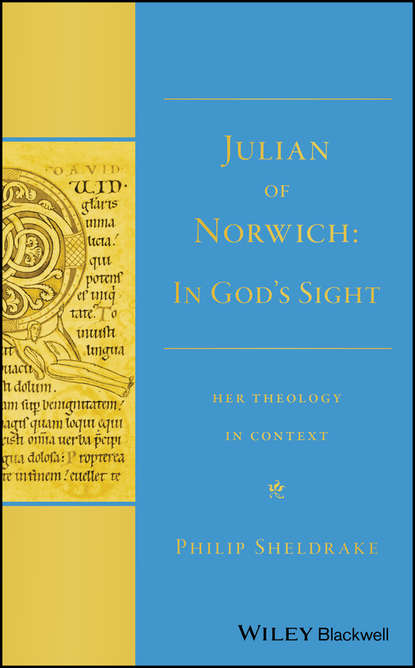За гранью: путь

- -
- 100%
- +
О том, что происходило дальше, я узнавал крошечными частями, от купцов, из писем, через Магистерий. В столице уже вовсю спорили, стоит ли пытаться выстроить хоть какие‑то контакты с орками официально. Доходили слухи, что где‑то на далёком севере небольшая орочья делегация действительно явилась в одну из крепостей и потребовала «говорить с хозяином людей». Маги осторожно подтверждали: да, к ним в одну из башен приходили ростом с коня существа с зелёной кожей, требовали переговоров, и с ними даже кто‑то разговаривал – через посредников.
Герцоги, особенно те, чьи земли были ближе к центру и дальше от реальной опасности, делились на два лагеря. Одни считали, что пора готовиться к общему крестовому походу против демонов – со знаменами, хоругвями, с песнями, как в старых балладах, только вместо неверных врагом были бы твари из разрывов. Другие полагали, что это всё преувеличено, что угрозу раздуты маги, желающие выбить деньги, или «истеричные пограничники», которым хочется казаться важнее.
Смешнее всего было одно: пока они спорили в светлых залах, орки по‑прежнему стояли по колено в грязи у чёрных разрывов и кричали от боли, когда когти демонов рвали их броню и плоть.
Пожалуй, самое странное в эти полгода заключалось именно в этом: наши поля, наши леса, наши дороги жили так, словно никаких разрывов в мире не появлялось. Ни одного недвусмысленного знака. Иногда в небе было чуть темнее на горизонте, чем обычно, иногда птицы вели себя нервнее, чем должны, но маги, к которым я обращался, разводили руками: «Может быть. А может, и нет».
Фольк вторично ходил к границе, уже с явным намерением посмотреть, как изменилась линия фронта. Вернувшись, он говорил мрачно, но спокойно. Да, разрывов стало больше. Да, орочьи деревни дальше от границы постепенно превращались в пустыри. Да, какие‑то орочьи племена, не выдержав, уходили вглубь своих земель, другие, наоборот, стекались к линиям обороны. Да, иногда ночное небо над дальним севером вспыхивало чёрно‑красными отблесками, как будто там кто‑то жёг не костры, а сам воздух.
Но ни одного случая, чтобы демоны вышли за некую невидимую черту, он так и не увидел. Твари, вырвавшиеся из разрыва и погнавшиеся за ним, снова в какой‑то момент разворачивались или будто натыкались на невидимую стену, после чего с яростью бросались обратно на ближайших живых. «Словно собак держат на длинной, но всё‑таки цепи», – сказал он однажды.
Магистерий в одном из своих писем аккуратно намекнул: по их предположениям, природа этих разрывов сама по себе ограничивает их распространение. Может быть, энергия, которая их подпитывает, связана с какими‑то старыми местами силы на землях орков. Может быть, там когда‑то проводились забытые ритуалы. Может быть, это последствия древней войны, отголосок которой сейчас просыпается. У них было много версий, но ни одной достаточно чёткой.
Тишина от этого казалась не благословением, а передышкой. Временным, непонятно сколько продлящимся интервалом, во время которого можно было сделать только одно: готовиться.
Когда я оглядываюсь на эти полгода, мне иногда кажется, что мы одновременно жили в двух мирах. В одном – орки умирали под когтями демонов, Магистерий писал осторожные записки, король двигал войска и считал золотые. В другом – кувалду Лотара сменяли новые молоты, телята в хлеву бодались за ведро, дети морщились, выводя буквы на песке, купцы шипели от злости, но подписывали честные договоры.
С кузниц всё и началось.
Первый молот, который мы запустили, был почти чудом на фоне прежней нищеты. Но стоило ему пройти первую зиму, как стало ясно: одного такого чуда мало. Мы взялись за второе колесо почти автоматически, как только убедились, что с рекой всё в порядке и льда в этом году меньше, чем обычно.
Вторая кузница выросла чуть ниже по течению. Там был удобный изгиб реки, где вода сама просилась крутить колесо. Под наведением Лотара мы поставили новое колесо, повесили на него вал, пристроили к нему молот и мехи. Рядом – длинное кирпичное строение, где разместились горны, горны поменьше и места для заготовок. Вскоре там зазвучал второй стук. Вначале – неуверенный, рваный, потом – всё более ровный, как сердце, вошедшее в привычный ритм.
Третий молот поставили ближе к деревням. Там было меньше руды, зато много работы по сельскому инвентарю. Этот молот был чуть проще, меньше по размеру, но именно через него пять окрестных деревень впервые получили не «как получится», а одинаковые и крепкие плуги.
Четвёртый стал нашим экспериментом – маленький молот у рудника, где мы попробовали обойти долгий и тяжёлый путь: «копать руду – везти далеко – плавить». Теперь часть руды проходила первую обработку прямо на месте. Итогом стали аккуратные металлические полосы и заготовки, которые было гораздо проще таскать и хранить.
Вместе с новыми молотами менялось и то, что выходило из под рук наших кузнецов. Лотар, которого я изначально ценил за грубую силу и честность, за эти полгода показал ещё одно качество: он умел учить. По крайней мере – в своём, ругательном, но эффективном стиле.
Он собирал вокруг себя мальчишек и мужиков, объяснял им, почему нельзя бить железо, когда оно слишком остывает, почему важно выдержать один и тот же размер у каждой подковы, почему гвозди должны быть не просто острыми, но одинаковыми. В его руках ругань становилась учебным пособием: к концу зимы даже самые тугие начали понимать разницу между «как‑нибудь» и «как надо».
Одновременно с железом росло живое – стада.
История с фермами оказалась почти сложнее, чем стройка кузниц. Если железо поддаётся, когда его греют и бьют, то крестьянин, которому пятьдесят лет объясняли, что он должен осенью резать почти всех животных, чтобы не тащить их через зиму, не меняет привычки от одного приказа.
Эрнст, человек, проживший половину жизни среди навоза, а вторую половину – среди людей, которые этот навоз не уважали, взялся за дело так, как умел: спокойно, упёрто и без иллюзий. Он прошёл по всем деревням, от самых ближних до дальних, переругался со всеми старостами, собрал по головёшке всех коров, овец, коз и свиней. Не поверил ни одной цифре, пока сам не пересчитал.
Во многих местах обнаружились «чудеса». В одной деревне одну и ту же корову показывали и баронскому сборщику, и купцу, и соседнему старосте – каждый раз, как будто это новая. Где‑то скот уже давно был забит, а по документам ещё «пасся». Где‑то, наоборот, пару худых коров прятали, чтобы не включать их в неймовки, надеясь потом втихую продать.
Эрнст вытащил всё на свет, свёл в единую картину и показал мне. Картина была нерадостной, но и не безнадёжной. Стада у нас были, но держались на соплях. Стоило одному тяжёлому году – и мы бы оказались у разбитого корыта, которого даже нет.
Мы заложили три больших баронских фермы. Каждая – со своим характером и задачей. У пойменных лугов устроили основной двор под крупный рогатый скот. Там коровы могли пастись на богатой траве, а близость к реке облегчала полив и уборку. На холмах, рядом с лесом, мы сделали ферму под овец и коз. Эти твари менее капризны к еде, зато дают шерсть, от которой зимой не отказываются даже самые гордые. Третий двор, в более защищённом месте, мы отвели под свиней и запасной скот – на случай болезни или падежа в других местах.
Осень стала первым испытанием. Привычка резать всё подряд на зимний стол была сильнее любых бумажек. В одной из деревень мужики чуть не пошли на Эйнста с вилами, когда тот запретил им забить половину стада «на праздник». Пришлось вмешаться лично. Я приехал, выслушал их крики про «барон жрёт мясо, а нам корку», а потом спокойно разложил перед ними простой счёт: если вы съедите сейчас, у вас будет праздник сегодня и голод завтра. Если сдержитесь – через два года ваши дети будут есть мясо не раз в год, а гораздо чаще.
Не все сразу поверили, но фактор силы тоже никто не отменял. Там, где не доходило через голову, приходилось доходить через страх. Несколько особенно упёртых мужиков отсидели по несколько дней в яме, размышляя над тем, что важнее – привычка или возможность, чтобы их внук видел корову не только на ярмарке.
Параллельно с этим шёл медленный, но важный процесс: менялось отношение к дереву и камню.
Каменоломня, которую я впервые увидел полгода назад как адскую дыру с хаотично снующими людьми, постепенно приобрела понятные очертания. Под руководством нового управляющего и с помощью Хорна, который вопреки своему ворчанию оказался очень толковым в вопросах грунта, мы изменили саму логику работы.
Теперь не было бессмысленных, опасных ниш, выеденных «на глаз», где каждый камень грозил обрушиться. Появились аккуратные уступы, ровные площадки, по которым теперь можно было проводить повозки. Поставили два нормальных подъёмника: деревянные конструкции с блоками и барабанами, крутящиеся от усилий нескольких человек или пары лошадей. Никакого волшебства, чистая механика, но экономия сил была чудовищной.
Чёткая запись каждого извлечённого блока и того, куда он ушёл, привела к любопытному эффекту: камень перестал исчезать «сам собой». Люди, которые раньше привыкли думать, что от куска глыбы никто не обеднеет, внезапно обнаружили, что если этот «кусок глыбы» числится в книге, то его пропажа становится заметной.
В лесу сначала тоже ворчали. Старые лесорубы кривились, когда им говорили, что рубить отныне надо не там, где удобнее подойти, а там, где положено по карте. Но несколько сильных ливней после зимы расставили акценты: там, где мы вырубали всё подчистую без плана, склоны начинали сползать, ручьи вымывали почву, деревни внизу засыпало грязью. Там, где оставляли защитные полосы, всё держалось. Один наглядный обвал убедил больше, чем десять умных слов.
Элин тем временем вела свою маленькую войну – за буквы.
Я до сих пор помню её лицо в тот день, когда мы в первый раз собрали у нас в зале человек десять тех, кого мы хотели сделать сельскими учителями. Молодая женщина, на вид ещё девчонка, стояла напротив мужиков в пропылённых куртках и парочки женщин в серых платках, и в глазах у неё плавали одновременно страх и решимость. Она развернула перед ними дощечки с аккуратно написанными буквами, и началось.
Сначала все относились к этому как к странной прихоти барона. «Пусть, – говорили, – поиграются с чернилами, нам‑то что». Но когда спустя пару месяцев в деревне у Мельничного щуплый мальчишка сумел сам прочитать и озвучить цену на бочку зерна на рынке, и оказалось, что купец в два раза завысил сумму, отношение сменилось. Мужик, который раньше смеялся над «умниками», после этого лично отвёл сына к нашему учителю и попросил: «Научи его ещё, чтобы он меня не дал больше дурить».
Параллельно с этим мы продолжали осторожно отбирать одарённых детей. Колодец с артефактом, к которому я теперь относился почти как к живому, раз в месяц‑полтора катили в очередную деревню. Люди уже не шарахались от него так, как в первый раз. Кто‑то крестился, кто‑то сплёвывал, но все понимали: если у ребёнка есть «искра», лучше узнать об этом от нас, чем дождаться, пока он случайно подожжёт амбар или утопит кого‑нибудь в колодце.
За эти полгода у нас набралось несколько ребят, способных чувствовать воду, воздух, чуть меньше – землю. Марта, та самая девочка, которую я впервые увидел у колодца, стала почти постоянной жительницей замка. Она помогала на кухне, носила воду, подметала, а вечерами сидела на уроках с Хорном или Ольгердом, слушала их ворчание о сосредоточенности и меру. Иногда, проходя мимо, я видел, как в её ладони поднимается крохотный столбик воды из миски, повисает в воздухе и мягко возвращается обратно. На такие крошечные штуки раньше никто бы и внимания не обратил, а теперь я видел в них кирпичик будущей стены.
Теневая стража за это же время перестала быть экспериментом и стала частью баронской машины.
Первые месяцы они работали осторожно, пробуя силы на мелких делишках: выявляли ленивых писарей, закрывали глаза на мелких воришек, следили за теми, кто слишком часто подолгу задерживался у чужих дворов. Потом дела стали серьёзнее. Несколько раз Лис приносил в контору такие истории о разговорах в своём трактире, что у меня в голове начинали складываться схемы: кто, где и сколько пытается заработать на старых связях.
Помню случай с одним из младших стражников. Он годами брал по медяку с каждой повозки, проезжающей через его ворота, почти не скрываясь. Раньше подобное воспринималось как «традиция». Теперь, когда Рупрехт выстроил ряд конкретных случаев, Конрад показал, как эти медяки складывались в почти серебро за неделю, а кто‑то ещё подтвердил, что часть этих денег уходила к старому писарю, стало ясно: это не традиция, а схема. Мы не стали его вешать. Отправили на тяжёлые работы без права возвращения в стражу. Люди уроды бывают, но не каждый заслуживает верёвку. Важно было другое: через неделю на тех воротах уже никто не вытягивал руку за «малым подношением».
***
К концу полугодия картина получалась любопытной. С одной стороны, наш маленький мир становился устойчивее. Железо шло ровнее. Скот медленно, но множился. Лес и камень добывались разумно. Дети знали чуть больше, чем их родители. Воры и взяточники чувствовали себя не такими всемогущими. С другой – на горизонте всё так же светился тот самый отдалённый огонь, который напоминал: все эти улучшения делаем мы не в вакууме.
Иногда ночью я выходил на стену замка и смотрел на север. На самом деле оттуда не было видно ни огня разрывов, ни орды демонов. Но в темноте воображение дорисовывало то, о чём рассказывал Фольк и что описывал в письмах Магистерий. Мне мерещилось, как там, за линией леса и холмов, по‑прежнему стоят зелёные фигуры с копьями у чёрных рваных дыр в воздухе. Как над ними висит дым, пахнущий не как обычный костёр, а горько и чуждо. Как маги спорят в своих башнях, заглядывая в кристаллы, а придворные спорят в залах, заглядывая в бокалы.
А у меня под стенами в этот момент кто‑то ругался в общежитии, что сосед храпит; где‑то ребёнок просыпался и плакал; где‑то коза бодала зазевавшегося паренька. И всё это, вместе взятое, сейчас зависело не только от меча и верёвки, но и от того, насколько правильно будут крутиться наши колёса, насколько честно будут вести книги наши писари и насколько вовремя в душе у тех же крестьян появится мысль: «Может, всё‑таки не резать последнюю корову?».
Полгода тишины, которые мир нам подарил – или, если быть циничным, навязал, пока демоны застряли в орочьих землях, – оказались не передышкой, а испытанием. Нам дали время, чтобы мы показали, можем ли мы вообще что‑то построить, кроме виселицы и очередной таверны. Мы использовали это время. Возможно, не идеально. Возможно, где‑то я ошибся, где‑то был слишком мягок, где‑то – слишком жёсток. Но, по крайней мере, я не сидел сложа руки.
Иногда мне казалось, что всё происходящее в баронстве – фермы, молоты, учителя, теневая стража, общежития – это лишь огромный, сложный механизм, который мы лихорадочно собираем, прежде чем начнёт гореть дом. И каждый гвоздь, забитый сегодня, окажется той самой деталью, которая завтра удержит стену чуть дольше.
Я стоял на стене, ветер тянул плащ, откуда‑то доносился стук молота – глухой, ровный, как удары сердца. И думал: если бы тогда, у колодца, мы с Ольгердом решили всё «по‑старому» и просто заколотили бы крышку, стараясь сделать вид, что ничего не случилось, я бы сейчас, наверное, тоже жил «по‑старому». Считал бы бароновские медяки, устраивал бы иногда показательные казни для порядка, ругал бы погоду и жаловался на ленивых крестьян. А где‑то там, за холмами, всё равно бы шёл тот же самый бой.
Теперь я хотя бы знал о нём. И мог хоть чем‑то помочь, когда придёт моя очередь. Или, по крайней мере, не мешать тем, кто сейчас держит линии.
Полгода тишины – слишком щедрый подарок для мира, который привык всё решать в последний момент. Я не собирался тратить его на сон.
Глава 2 Чужие трещины и чужие люди
Полгода – срок, за который дом может либо встать на ноги, либо начать рушиться. Наш баронство за это время понемногу тянулось вверх, как дом, где хоть и трещат старые балки, но уже подведены новые опоры. У Людвига же дом шёл по второму варианту: треск стоял такой, что отдавался даже у нас.
Это было слышно не в прямом смысле, конечно, а по вестям. Сначала редкие слухи от пробегающих купцов: налоги поднял, людей душит, орков грабит, кто не платит – тех вешает. Потом всё чаще: в деревне такой-то бунт был, двоих повесили, троих сгноили в яме; отряд вернулся с орочьей вылазки наполовину, остальные легли или под топоры орков, или под когти демонов, от которых теперь в тех краях никуда не деться.
Я не спешил радоваться его бедам. Чужой разваливающийся дом редко падает строго внутрь себя. Чаще всего он рушится набок – и придавливает соседей. Но, глядя на то, как у него идут дела, я ясно понимал одно: там, за границей, живут люди, которые устали умирать за хозяина‑дурака. И среди них есть те, за кого стоит побороться.
В один из дней я позвал к себе Ханса, Лиса, Рупрехта и Тарга. Стол был заставлен кружками с пивом, но пить никто толком не успевал – разговор обещал быть длинным.
– У Людвига, – начал я без прелюдий, – дом трещит.
– И трещит так, что скоро либо крыша съедет, либо стены завалятся.
Лис усмехнулся, перетягивая ремень на худых плечах.
– Слышал, – сказал он. – Купцы уже шепчут, что в Кригштале скоро начнутся побеги. Не зайцы, а люди. Куда побегут? К тем, где не режут за каждую монету.
Рупрехт нахмурился. Для него каждая такая тема была не просто разговором о людях, а разговором о порядке.
– Беженцы – это и шанс, и беда, – заметил он. – Примем без разбора – половина окажется ворами, половина – с чужими обычаями.
– Но выбросить – значит потерять руки.
Ханс молча кивал. Экономика была его стихией.
– Нам нужны люди, – сказал он тихо. – Особенно если мы хотим тянуть дороги, строить таверны, расширять фермы. Своих – не хватает. Где взять? У того, кто их истощает.
– Значит, – подытожил я, – пора начать действовать. Но не топорно. Я не собираюсь устраивать у границы ярмарку: «Бросайте своего барона, идите к нам, у нас сахар и мёд».
– Нужно сделать так, чтобы те, кто нам нужен, пришли сами. И чтобы Людвиг понял, что люди от него уплывают, только тогда, когда уже будет поздно.
Лис оживился. Он любил такие задачи – тихие, но с приправой риска.
– Значит, нужны слова, деньги и дорожки, – сказал он. – И, пожалуй, пара песен в трактире.
Я кивнул.
– Начнём с того, что сделаем то, чего не делает Людвиг, – произнёс я. – Дадим людям простую вещь: шанс на нормальную жизнь за понятную работу.
– Но сначала нам нужно вычистить ещё одну язву. Пока дорожный люд боится ездить по нашим трактам, никакая слава не удержит людей у нас.
Рупрехт поднял взгляд.
– Разбойники? – уточнил он.
– Разбойники, – подтвердил я. – Их ещё много. И если я собираюсь выложить тракт камнем, поставить таверны и брать с купцов честную пошлину за безопасную дорогу, я не могу позволить, чтобы в придорожных лесах сидели люди, чьим бизнесом является перерезать горло тем, кто едет мимо.
Тарг ухмыльнулся хищно. Ему разговоры про порядок на дорогах нравились по одной простой причине: в них всегда пахло боевой работой.
– Это уже мне по душе, – сказал он. – Скажешь слово – и пойдём чистить.
Я поднял ладонь.
– Чистить – будем. Но не всех одинаково.
– Кому-то дадим шанс встать под наше знамя. Кому-то – объясним на верёвке, что эта дорога больше не их.
Лис усмехнулся снова, но на этот раз без насмешки – одобрительно.
– По рукам, барон. Только дай мне пару дней, чтобы я послушал, кто есть кто, прежде чем Тарг туда придёт со щитом.
Начать с Людвига мы решили не саблей, а словом. И не своим словом – чужими ртами.
Лис, как оказалось, был знаком с несколькими корчмарями на той стороне. У него, кажется, не было места, где он хоть раз не наливал кому‑нибудь кружку, а заодно и не завёл разговор о жизни. Через этих людей и через парочку мелких торговцев, вынужденных возить товар в обе стороны, мы стали аккуратно распускать нужные нити.
В трактирах у границы, где собирались и крестьяне с дальних полей, и ремесленники, и молодые парни, мечтающие сбежать от скуки деревенской жизни, одна и та же история вдруг стала звучать всё чаще.
– Слыхал, в Рейхольме, у этого… как его… Арделя, – говорили вполголоса, будто делились тайной, хотя на самом деле всё давно было рассчитано, – рабочим платят не узелком муки раз в год, а деньгами. Да ещё и кормят.
– И живут они не в навозе, а в особых домах. Там у них, говорят, четыре человека в комнате, а не двадцать. И крыша не течёт.
Кто‑то уточнял:
– А не сказки ли это? Бароны все одинаковы.
Тогда собеседник, вздыхая, кивал:
– Может, и одинаковы. Только вот тут, у Людвига, у меня брат за прошлую осень три раза на орков ходил. Ничего не принёс, только шрамы. Потом ещё налог подняли. А там, говорят, если ты на стройке честно отработал, никто не загонит тебя в набег. Я вот думаю… может, дети мои там лучше вырастут.
Слова шли. Лис приправлял их фактами. Он не врал. Говорил честно: работа тяжёлая, но платят. Домики не дворцы, но чище, чем ямы. Барон не святой, но вешает не только тех, у кого нет денег, а и тех, кто сам ворует. И потихоньку в головах людей на той стороне вырастала простая мысль: мир, оказывается, не везде одинаковый.
Я велел Рупрехту разработать правила для приёма чужаков ещё до того, как они хлынут потоком. Мы не могли позволить себе открыть ворота всем – слишком велик был риск пустить в дом тех, кто придёт не жить и работать, а воровать под новым флагом.
Правило было простым, как меч.
Каждый, кто приходил к нам из земель Людвига, должен был:
– назвать своё имя и деревню,
– сказать, чем занимался,
– объяснить, почему ушёл.
Не передо мной – перед маленьким советом, в который входили Рупрехт, один‑два старосты из наших деревень и пара людей, уже зарекомендовавших себя в работе. Мы специально сделали так, чтобы судили не только люди «сверху», но и те, кто будут потом рядом с этими новыми стоять в строю или пахать с ними одну борозду.
Если рассказы не сходились, если человек мялся, если на него показывали пальцем как на вора, его записывали в «под вопросом». Таких отправляли сперва на самые тяжёлые, малопривлекательные работы – в каменоломню, на расчистку оврагов под будущие дороги. Там лучше всего вскрывается, кто есть кто. Настоящий работник может ворчать, но тащит. Лентяй – сбежит. Разбойник – начнёт сразу смотреть, где плохо лежит.
Тех же, о ком шли хорошие сведения, старались распределять ближе к тем местам, где можно было быстро увидеть результат. В кузни, на фермы, в артели дорожников.
Первые двое пришли почти сразу, как только по трактам побежали нужные разговоры. Один – плотник, высокий, жилистый, с руками, на которых мозоли были толще кожи. Второй – парень лет двадцати, бывший стражник, которого выгнали за то, что он отказался брать «долю» с хозяина лавки за закрытие глаз. Они рассказывали свои истории тихо, без лишних слов.
Плотник сказал:
– Я двадцать лет строил у Людвига дома. И для него, и для его людей. А потом он решил, что я должен идти в набег. Я сказал: «Я плотник, а не рубака». Он ответил: «Значит, будешь висеть плотником». Я ушёл ночью.
У второго история была короче. «Устал грабить тех, кого должен защищать», – сказал он. Я поверил, но не стал говорить это вслух. Его взяли в обучение к Таргу, но сначала заставили месяц пахать на стройке. Пускай почувствует цену того, что защищать будет.
Потом пошли и другие.
К началу посевной к нам пришли две семьи целиком – с детьми, узлами, парой коров на верёвке. Дальше – одинокие мужчины, пара немолодых женщин, которых выгнали из хозяйства вдовами, потому что кормить лишний рот в Кригштале считали роскошью. Кто‑то бежал от виселицы, кто‑то – от голода, кто‑то – от набегов, которые Людвиг гнал на орков всё чаще.
С каждой такой душой у меня в сумме было две задачи: найти ей место и не дать ей принести сюда заразу того баронства, откуда она пришла. Это было похоже на пересадку растений: если просто вырвать и воткнуть, могут погибнуть оба куска – и старый, и новый.
Мы определили три места, где переселенцев было особенно удобно принимать: новый дорожный посёлок у тракта, деревню у каменоломни и одну из ферм, где не хватало рабочих рук. Везде, где чужие появлялись, рядом уже были наши. Так, чтобы и поддержать могли, и присмотреть.
Слух о том, что в Рейхольме чужих не бьют по голове за один акцент, ходил быстрее, чем гонцы.
Некоторые, конечно, пытались использовать это по‑своему. Однажды к нам пришла пятёрка здоровых парней, которые слишком быстро и охотно говорили нужные слова. Когда Рупрехт слегка надавил вопросами, вылезло наружу: трое из них до недавнего времени входили в небольшую банду, грабившую обозы у самых ворот Кригшталя.