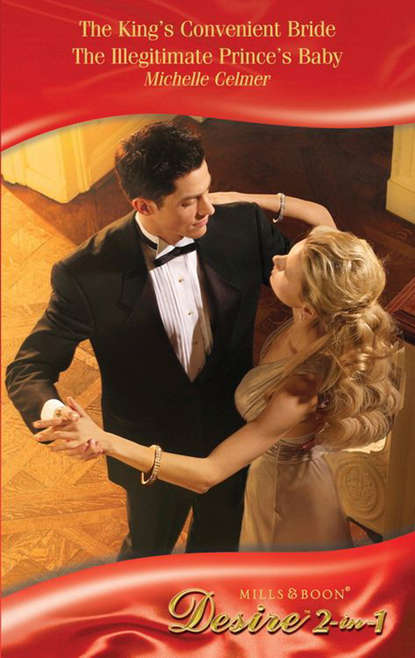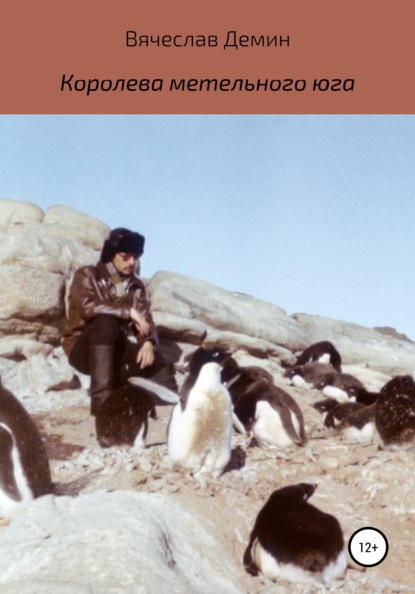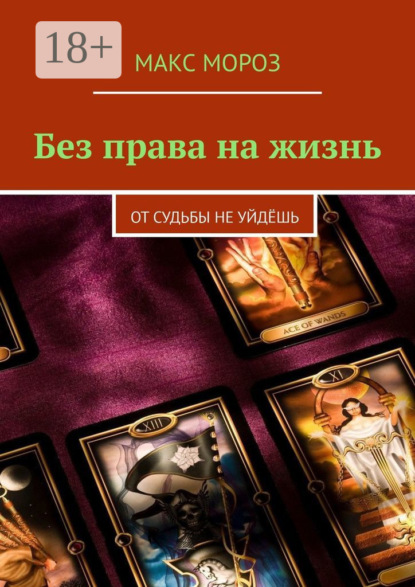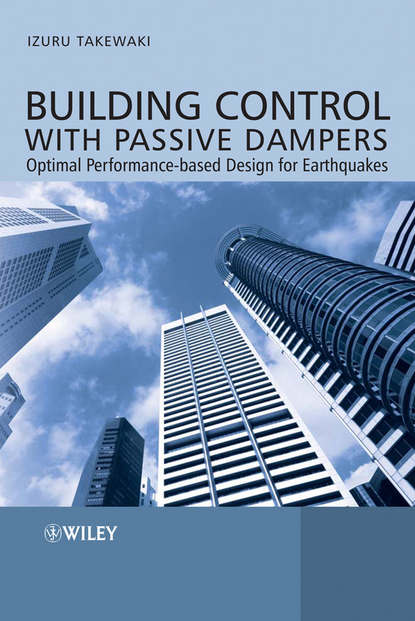За гранью: путь

- -
- 100%
- +
Я не стал делать вид, будто не понимаю, что такое человек, который однажды уже выбрал путь с ножом в тёмном лесу. Они не были кровниками, не убивали ради удовольствия, но… работали не теми руками и не так. Пришлось решать.
Раньше я, возможно, махнул бы рукой: «Ну и что, у всех прошлое есть». Теперь – нет. У нас была Теневая стража, у нас был Рупрехт, у нас был Тарг. Мы посадили этих троих в отдельное помещение и честно предложили выбор.
– Я не слепой, – сказал я им, войдя туда. – Вы люди смелые, умеете держать оружие и не боитесь крови. Это качество, которое можно использовать. Но я не собираюсь держать в своём доме волков, если они не согласятся надеть ошейник.
Один из них, с шрамом через всё лицо, нахмурился.
– Какой ещё ошейник? – пробурчал он.
– Ошейник порядка, – ответил я. – Либо вы идёте под руку Тарга, служите в гвардии, участвуете в зачистке тех, кто делает то, чем раньше занимались вы. И там, под его присмотром, доказываете, что стоите чего‑то большего, чем виселица.
– Либо я вешаю вас на тракте, с красивыми табличками на груди. И ваши бывшие дружки, возможно, задумаются.
Молчание стояло тяжёлое. Один из троих тут же сглотнул и кивнул: он был не идиот, понимал разницу между жизнью и вёдром с дерьмом у колодца. Второй колебался, третий смотрел на меня с ненавистью.
– И что, – процедил третий, – все твои гвардейцы святыми были?
– Кто знает, чем они занимались до того, как к тебе пришли?
– Я знаю, – спокойно сказал я. – И, в отличие от тебя, они согласились с того дня играть по моим правилам.
– Ты можешь пойти тем же путём. Но у тебя есть выбор только один раз.
В итоге двое согласились. Третий плюнул мне под ноги. Пришлось показать виселицу. Новая мёртвая фигурка на столбе при въезде в город напомнила остальным: да, барон даёт выбор, но не до бесконечности.
После этого случаи, когда в Рейхольм пытались просочиться целые банды под видом «бедных беженцев», резко сократились.
Тем временем, чем хуже становилось у Людвига, тем чаще на горизонте нашего тракта показывались чужие повозки, чьи хозяева смотрели по сторонам с осторожной надеждой. Одни искали место, где можно пристроиться на работу. Другие – где у них хотя бы не заберут последнюю лошадь в очередной «поход славы».
Было ясно: если мы хотим, чтобы все эти люди не только пришли, но и осели, нам нужна не только работа и мясо в котле. Нам нужна дорога, по которой они придут. И дорога, по которой пойдут те, кто повезёт дальше наши товары.
Главный тракт через наше баронство раньше был… дорогой по названию, а не по сути. Весной, в распутицу, повозки вязли в грязи так, что лошади проваливались по брюхо, а задние колёса приходилось выкапывать руками. Летом колеи высыхали и превращались в рытвины, о которые ломались оси. Осенью всё повторялось, только с добавлением опавшей листвы, скрывающей ямы. Зимой дорога терпима лишь до первого большого снегопада.
Я уже давно понимал: если мы хотим действительно взять в руки поток торговли в этом краю, дорогу нужно сделать такой, чтобы купцы сами говорили: «Поедем через Рейхольм, там можно хоть не молиться каждому кочкарю».
В голове у меня стоял чёткий образ – не ровно, как на Земле, но достаточно близко: твёрдое основание, камень, щебёнка, отводы для воды по краям. Не идеальное шоссе, но дорога, по которой колёса катятся, а не скачут.
Мы начали с самого сложного: с мысли.
Я созвал мастеров, Ханса, Лотара, управляющих каменоломней и лесом, нескольких старост больших деревень. На стол положил грубую карту баронства, на которой был нанесён наш тракт – от границы с Мельцем до пределов Людвига.
– Вот это, – сказал я, обводя чернилами линию, – наша будущая торговая артерия.
– Через неё пойдут товары. Через неё пойдут люди. Через неё пойдут вести. И, если мы всё сделаем правильно, через неё пойдут ещё и деньги – в нашу казну, а не только в чужой карман.
Лотар почесал затылок.
– Камня у нас хватает, – сказал он. – Но тянуть его по всей длине тракта…
– Лошадей не напасёшься.
Каменоломщик, седой мужик с руками толщиной с мою ногу, мрачно хмыкнул.
– А если слой положим только там, где грязь по колено, – предложил он, – остальное оставить, как есть?
– Тут подсыпем, тут не подсыпем – и вроде как дорога.
– Нет, – отрезал я. – Так мы будем постоянно латать дыры, вместо того чтобы один раз сделать фундамент.
– Начнём с самого тяжёлого участка, от города до переправы через реку. Если у нас получится там – остальное пойдёт легче.
Мы сошлись на том, что дорога должна иметь три слоя: самый нижний – из грубых камней, побольше, уложенных как можно плотнее; средний – из щебня и каменных осколков; верхний – из утрамбованной смеси щебня с песком и немного глины. По краям – канавки для стока воды, чтобы любая ливень не превращал тракт в русло реки.
Все эти слова звучали почти как заклинание для тех, кто всю жизнь просто утрамбовывал дорогу копытами. Но у меня перед глазами стояли изображения, которые я теперь легко мог вызвать силой своего зрения: в памяти всплывали шоссе и просёлки из прошлого мира, я видел, как лежит под ними слой за слоем. Это было почти нечестное преимущество, но я не собирался им разбрасываться.
Чтобы не тратить силы людей впустую, мы продумали логистику. Камень везут не с одной точки, а с нескольких участков каменоломни. Там, где тракт проходил ближе к источникам материала, сразу рядом ставили временные склады: груды камней разного размера, разложенные по кучам, а не сваленные всё вместе. Дальше – артели.
Мы создали отдельные дорожные артели: десяток–другой человек работали только на дороге. У них были свои старшие, своя норма, своё жалованье. К ним добавляли осуждённых на принудительные работы – но не обычным кнутом, а с разумом. Тех, кто провинился мелко – подделал запись, украл мешок зерна – ставили копать канавы и выравнивать грунт. Под присмотром, конечно. Тех, кто был опаснее, туда не пускали: такие лучше пусть таскают камень у подножия стены, под глазом стражи.
Я не строил иллюзий: первые месяцы люди матерились на меня так, что в аду бы покраснели. Для них это были просто лишние трудодни, непонятные нововведения, дополнительная грязь на руках. Но когда первые полверсты дороги от города до ближайшего пригорка были полностью выложены и утрамбованы, когда по ним первой поехала тяжёлая повозка с рудой – и ни разу не увязла, ни разу не подпрыгнула до скрипа оси, даже самые скептичные приуныли.
– Так бы сразу и сказал, что будешь чудеса творить, – пробурчал один из возчиков, махнув мне в спину шапкой, когда я стоял у обочины и смотрел, как колёса оставляют на ровном слое лишь лёгкие следы. – Мы б и ругались поменьше.
Я усмехнулся. Людям, как и лошадям, надо иногда дать почувствовать разницу ногами, а не словами.
По мере того как дорога становилась твёрдой, у неё появлялись новые спутники. Сначала – небольшие кострища по обочинам, где дорожники грелись по вечерам. Потом – шатры. Потом – первые настоящие строения, похожие на те общежития, что мы уже начали строить в городе.
Я заранее выбрал несколько ключевых точек: место у реки, место на развилке двух дорог, место у старого дуба, где всегда останавливались путники. Там мы и задумали поставить таверны.
Я знал, что такое придорожная корчма в этом мире: чаще всего – грязная яма, где тебе нальют кислое пиво, украдут из‑под подушки последний кошель и, если повезёт, не прирежут в углу во время драки пьяных возчиков. Меня такой вариант не устраивал. Я хотел, чтобы купцы сами говорили: «Лучше переночуем в таверне барона, чем в каком‑нибудь сарае – там хоть живыми уедем».
Каждую таверну мы строили по одному принципу: большой общий зал с очагом, несколько более‑менее отдельных комнат для тех, кто может заплатить за личное пространство, конюшня, склад под товары, место для стражи. Владелец таверны не был случайным пьяницей – мы подбирали людей, уже проверенных на честность, и заключали с ними договор: часть прибыли – их, часть – казны. Взамен – ясные правила.
Никакого воровства с их стороны, никакого укрывательства бандитов, никаких тайных делишек с теми, кого мы уже внесли в чёрные списки. За каждым таким местом закреплялся маленький стражевой пост: два–четыре человека из гвардии, менявшиеся по очереди. Они жили при таверне, ели там, помогали в случае драки, но главное – следили, чтобы дорога вокруг оставалась чистой.
В первую таверну мы нашли хозяйкой женщину по имени Грета. Её муж был возчиком и погиб в одном из набегов бандитов, ещё до того, как мы занялись дорогами всерьёз. Она осталась с двумя детьми и характером, который мог бы сам прогнать из трактира половину пьянчуг одним взглядом. Денег у неё не было, но было желание работать. Мы дали ей старт: часть стройматериала, немного денег на закупку первых бочек пива и еды, помощь от артели строителей. Взамен – она подписала договор, как и положено.
Я сам приехал на открытие её таверны, не ради показухи, а чтобы увидеть, как это работает в живую. В зале пахло свежим деревом, дымом и жареным мясом. В углу сидели дорожники, у стены – пара наших стражников, ближе к выходу – пару купцов, что решили проверить новинку. Грета металась между столами с ловкостью человека, который всю жизнь жил в тяжёлом деле, а не в мечтах.
– Барон, – сказала она мне тихо, когда я отошёл от стола, – если ты всё это затеял, чтобы люди могли ехать спокойно…
– Знаешь, я рада, что у моих детей теперь не дорога на кладбище каждый раз, как муж домой не возвращается.
Я кивнул. Именно ради этого всё и делалось. И да, ради пошлин тоже.
Потому что как только дорога стала легче, а таверны – безопаснее, поток купцов действительно потянулся через нас охотнее. И в этот момент мы сделали второй шаг: немного подняли пошлины.
Не хищно – разумно. Те, кто хотел просто проехать через баронство, платили чуть больше, чем раньше, но получали взамен реально меньшие риски и лучшую дорогу. Те, кто пользовался нашими складскими помещениями, прислонялся к нашим тавернам, нанимал наших стражников для сопровождения, тоже отдавали свою долю. Мало кто возмущался вслух: все знали, сколько стоит новый обод на колесо или новая ось, если повозка ломается в грязи.
С одной стороны, мы создавали им условия. С другой – продавали безопасность и удобство. Это было честно и выгодно.
Но чтобы это всё имело смысл, нужно было довести до конца ещё один важный шаг: разбойничьи гнёзда, которые по обочинам тракта сидели годами, должны были исчезнуть.
Разбойник в наше время – не сказочный чёрт в лесу, который тут же бросается на любого путника. Это чаще всего бывший солдат, лишённый жалования; крестьянин, которого выгнали с земли; мелкий дворянин с вымороченным на войне наделом. Их отчаяние, умноженное на привычку к оружию, давало тот коктейль, который мы ежедневно пытались вычерпывать с дорог.
До сих пор мы работали по принципу «видим – ловим». Стража и гвардия реагировали на нападения купцов, иногда устраивали засады, иногда прочёсывали леса. Но это были отдельные действия, а не системная чистка.
Теперь у меня был повод и возможность изменить подход.
Я собрал Тарга, Рупрехта, Лиса и Конрада ещё раз.
– С этого дня, – сказал я, когда мы собрались в малом зале, – дороги – наша кровь. И всякий, кто будет на них паразитировать, будет либо кровью нашей, либо нашей костью.
– Разбойники не могут больше жить отдельно. Либо они станут частью нашего порядка, либо исчезнут.
Тарг хмыкнул.
– То есть, – уточнил он, – сначала предложить службу, потом – верёвку?
– Да, – ответил я. – Но не всем. Лис, твоё дело – заранее выяснить, кто есть кто.
– Я не хочу брать в стражу тех, у кого на руках кровь за просто так. Но тех, кто пошёл в разбой от голода и бесхозяйственности, мы можем использовать. Только под жёстким контролем.
Рупрехт выразительно посмотрел на меня.
– И ты понимаешь, – сказал он тихо, – что часть моих людей начнёт шептаться: «Вот, барон ворюг к себе берёт»?
– Понимаю, – кивнул я. – Поэтому мы будем делать это открыто. Каждый случай – отдельно. Каждого, кого берём, – сначала на самые грязные работы, под надзор. Пускай люди сами видят: службу нужно выкупать не языком, а делом.
Мы начали с того, что собрали всё, что знали о банде, державшей в страхе участок тракта между нашими землями и границей Людвига. Они были как шип в боку: появлялись и исчезали, нападали на обозы раз в месяц‑два, но так, что у всех в округе волосы вставали дыбом.
Лис уже давно приценивался к ним. Знал, сколько их примерно, где, по слухам, у них такие места, куда они носят награбленное. Через своих людей в трактирах он выяснил имена двух главарей: один – бывший лучник из гарнизона Кригшталя, второй – сын разорившегося мелкого дворянина, который считал, что мир отобрал у него «законное».
Мы не стали бросаться на них всем отрядом. Вместо этого устроили им ловушку.
Через тех же купцов пустили слух: в такой‑то день пойдёт небольшой, но жирный обоз – с тканями и вином, не слишком большой, но привлекательной мишенью. Разбойники клюнули предсказуемо. В назначенную ночь они выехали из своего лесного логова и выдвинулись к тому месту, где должны были перехватывать караван.
Они даже увидели его – несколько повозок, пару факелов, пару фигур. Всё выглядело, как обычно. Они выскочили из леса с криками, приготовились к лёгкой добыче – и в этот момент из темноты с двух сторон вышли наши. С одной стороны – гвардия под началом Тарга, с другой – стражники, которых обучали целенаправленно этой засадной работе.
Я не буду делать из этого боя легенду. Это было грязное, короткое дело. Крики, удары, пара сломанных лезвий, чья‑то кровь на грязной дороге. Несколько разбойников легли сразу, многие сдались, когда поняли, что схватили не караван, а ответ. Пара попыталась бежать – их сняли стрелы.
К утру мы вывели связанных разбойников на край леса, к дороге. Человек с двадцать. Кто‑то хмурился, кто‑то сжался в комок, кто‑то матерился, не веря, что всё так легко обернулось.
Я вышел к ним лично.
– Вы все знали, что делали, – сказал я без лишних слов. – И вы знали, что рано или поздно это конец.
– У вас есть два пути. Один – виселица. Прямо сейчас. Второй – вы идёте на принудительные работы, пашете, таскаете камень, копаете канавы. Год. Два. За это время вы доказываете, что вы можете жить по правилам.
– А потом, если Рупрехт и Тарг скажут, что из вас вышли толк, вы сможете встать в строй. Не разбойничий – наш.
Шум среди связанных поднялся как в пчельнике. Кто‑то заорал, что это несправедливо – «мы ведь только купцов грабили, не своих». Кто‑то, наоборот, уже кивал, хватаясь за любую ниточку, чтобы не висеть.
Я дал слово старшему из них – тому самому бывшему лучнику.
– И что, – спросил он хрипло, разглядывая меня, – ты думаешь, мы будем честно работать, а потом честно служить?
– Ты что, святой?
– Нет, – ответил я. – Я практичный.
– Я знаю, что кто‑то из вас сбежит. Кто‑то украдёт что‑то ещё. Кто‑то, возможно, убьёт кого‑то из моих. И за это я буду вешать без разговоров. Но я также знаю, что часть из вас умеет держать топор так, как не умеет ни один крестьянин. И если я сейчас просто повешу два десятка таких людей, я выкину в яму то, что можно было бы обратить себе на пользу.
Он долго молчал. Потом, наконец, подавил в себе зло.
– Ладно, барон, – выдохнул он. – Хуже верёвки всё равно нет. Делай, как сказал.
Из этих двух десятков половина действительно сбежала, как только получила возможность ходить по земле без верёвки на шее. Их потом ловили по одному, и далеко не всегда живыми. Пятеро умерли от болезней и ран, не дожив до возможной «чистой» службы. Остальные же, как ни странно, втянулись. Таская камень рядом с обычными крестьянами, копая канавы бок о бок с бывшими коллегами‑грабителями, они начинали видеть мир чуть иначе.
Я не идеализирую их. Но через два года двое из них уже стояли в стражевых башнях по краям тракта и честно останавливали тех, кто пытался перетянуть кошелёк у проезжающего купца. Может быть, не из любви к людям, но из уважения к новой роли – и из страха снова оказаться с петлёй на шее.
Постепенно новости о таких казнях и выборах разошлись по лесам. Многие мелкие шайки предпочли просто уйти. Кто‑то ушёл к Людвигу, кому‑то дороги теперь казались слишком опасным местом для промысла. Путь купца через Рейхольм становился всё безопаснее.
И как только вокруг тракта стало заметно тише, купцы, у которых раньше на их картах дорога через наши земли была перечёркнута красным крестом «опасно», начали стирать этот крест.
Пока на поверхности бурлила пыль дорог, под землёй – в смысле, в глубине наших мастерских и в башнях Магистерия – завязывалась другая, не менее важная нитка.
Идея использовать магию не только для фокусов и боевиков, но и для обычной работы, конечно, не была новой. Ольгерд сам служил при дворах, где огненные шары запускали для забавы, а не для нужды. Но мысль о том, чтобы соединить водяное колесо с магическим накопителем, или заставить телегу ехать не только от лошадиного хребта, а ещё и от некоего невидимого толчка, уже давно вертелась в моей голове.
Я видел повозки прошлого мира – железные ящики на колёсах, несущиеся по дорогам на скорости птиц. Я понимал, что повторить это здесь в чистом виде невозможно – нет ни бензина, ни заводов, ни нужных сплавов. Но кое‑что можно было перенести.
Сначала – мысль: движение может идти не только от мускулов. Потом – понимание: магия – это тоже энергия, её можно накопить, перенаправить, распределить. А у меня, в придачу к этому, было моё Зрение, позволяющее видеть линии силы, а иногда и то, как эта сила ведёт себя в артефактах.
Я обсудил эту мысль сначала с Ольгердом. Мы сидели вечером в его небольшой мастерской, где пахло смесью трав, нагретого железа и старой бумаги. На столе лежали несколько кристаллов, кусок медной проволоки, пара обугленных дощечек.
– Ты хочешь сказать, – протянул он, задумчиво потирая виски, – что мечтаешь о повозке, которая будет ехать сама, без лошади?
– Или хотя бы не убивать лошадь на каждом подъёме, помогать ей, – уточнил я. – И не только повозке. Я думаю ещё про плуг, который можно было бы тянуть не четырьмя волами, а двумя, потому что часть усилия берёт на себя сила.
Он хмыкнул.
– В принципе, такое уже пробовали, – сказал он. – В старых записях есть упоминания о движущихся платформах. Маги земли и воздуха пытались что‑то подобное создать… но чаще всего это оказывалось либо слишком дорогим, либо слишком нестабильным.
– Представь, если такой плуг посреди поля взбесится и начнёт носиться, как бешеный бык. Радости будет немного.
Я не стал спорить. Я прекрасно понимал, что каждый новый механизм – это не только польза, но и новые риски. Но у нас теперь была одна вещь, которой не было у тех, кто пробовал до нас: возможность смотреть внутрь работы силы глазами, которые видят не только искры.
– У нас есть я, – сказал я. – Я могу смотреть на артефакт, видеть, где сила течёт, где путается, где рвётся. Мы можем использовать это, чтобы сделать их… не идеальными, но хотя бы менее сумасшедшими.
Ольгерд задумался на пару дней. А потом сказал:
– Ладно, давай попробуем. Но для этого нужен не только я. Нужен Магистерий.
– У них есть наработки, у них есть накопители, у них есть материалы, которых у нас пока нет. И, что важно, у них есть деньги, которыми они готовы платить за новые вещи.
И вот тут всё интересное начиналось.
Магистерий уже видел толк от нашего сотрудничества: артефакт прояснения, который мы испытывали, дал им ценные данные. Взамен они не только признали нашу полезность, но и были готовы подкидывать нам новые игрушки для испытаний. Правда, не бесплатно в смысле усилий, но с оплатой в монетах.
В один из дней, когда дорога до переправы уже была выложена, а в первой таверне Греты впервые заблестел свежий кухонный нож, во двор замка опять въехала та самая синяя повозка. Курьер Магистерия, всё тот же, со знакомым уже лицом, поклонился мне и протянул тубус.
– Совет Магистерия, – сказал он, – благодарит вас за предыдущую работу. На этот раз они прислали вам… кое‑что особенное.
– И, – он слегка усмехнулся, – ещё одно письмо. Там, возможно, вас порадует одна строчка.
Мы прошли в зал. Я сломал печать, развернул свиток. В начале – благодарности, в середине – осторожные формулировки про разрывы, в конце – то, что действительно касалось нас.
Магистерий предлагал нам участие в новом эксперименте. Они собирались разработать прототип «самодвижущейся телеги» – так это было названо в письме. И хотели, чтобы мы стали их полигоном. Моё Зрение должно было помочь им увидеть, где сила в конструкции будет вести себя не так, как нужно. Взамен – они обещали нам не только один из первых образцов, если эксперимент удастся, но и оплату за саму работу: золотом, а также материалами, которые не так просто было достать в провинции. Мои разговоры не прошли даром ,меня услышали и это радует.
К свитку была приложена небольшая шкатулка, в которой лежал артефакт. На вид – просто серый камень, вделанный в металлический обруч, с несколькими вырезанными на нём символами, которые я не сразу даже узнал. Когда я повернул его в руках, он чуть дрогнул, как живая вещь, почуявшая взгляд.
– Это… – начал я, и Ольгерд, стоявший рядом, закончил: – …это зачаток накопителя движения. Старый принцип, но в новой обёртке.
– Они уже давно думали, как «поймать» силу, возникает при движении колеса, а потом направить её обратно. Похоже, решили проверить это не в своих башнях, а у нас.
Я смотрел на артефакт – и видел, как внутри него тонкие ниточки силы переплетаются, как две змеи. Они то притягивались, то отталкивались, то искали путь наружу. Ничего не активировалось, пока я не захотел этого – но потенциал был ощутим.
Магистерий предлагал простую схему. Мы ставим этот артефакт на одну из телег, соединяем его с осью колеса через простейший механизм. Когда телега движется от тянущей её силы – лошадиной, человеческой, ветровой – часть энергии движения запасается в артефакте. Потом, на подъёмах или в тяжёлых местах, артефакт можно будет «открыть» – и он отдаст запасённое, помогая толкать повозку.
Это было похоже на мои прошлые знания о маховиках, пружинах, аккумуляторах. Конечно, магическая версия была химерой, опасной и капризной. Но, если заставить её работать, это могло изменить многое.
– Они хотят, чтобы ты своими глазами посмотрел, как он себя ведёт, – сказал Ольгерд. – И сказал, где он «закусывается». Для них ты – живой измеритель.
– И за это, – он показал глазами на отдельную строку в письме, – нам заплатят… внушительно.
Мы с Хансом потом считали эту сумму несколько раз. Даже если учесть, что часть этих денег уйдёт на работу мастеров, на подготовку самих телег, на испытания, оставшаяся часть могла покрыть как минимум половину королевского чрезвычайного сбора за год. Это было не просто любопытно – это было выгодно.
Я, конечно, понимал, что за всем этим стоит и другая сторона. Магистерий не был благотворительной организацией. Им нужно было не столько помочь барону с дорогой, сколько получить у себя в архиве рабочие протоколы испытаний артефакта в реальных условиях. Но меня это полностью устраивало.
В ближайшие недели мы начали с того, что выбрали одну из самых крепких телег, слегка укоротили её, усилили ось, приделали к ней металлическую раму, на которую можно было бы поставить артефакт, не боясь, что он отскочит и покалечит кого‑нибудь. Ольгерд, Хорн и Лотар часто собирались втроём, спорили, что к чему подключать. Я иногда присоединялся, не как маг или мастер, а как тот, кто видел, куда текут силы.
Первый выезд этой телеги оказался комичным. Мы привязали к ней одну лошадь, поставили на неё пару мешков с песком, закрепили артефакт и поехали по уже выложенному участку дороги. Лошадь шла привычно, не подозревая, что с ней экспериментируют. Я активировал артефакт лёгким усилием воли – он был настроен на мой отклик.
По моим ощущениям, внутри камня что‑то «щёлкнуло». Ниточки силы начали закручиваться чуть быстрее. Колёса крутилось, часть энергии куда‑то уходила. Лошадь фыркала, но шла спокойно.
– Чувствуешь? – спросил я у Ольгерда.
– Пока – нет, – честно ответил он. – Для меня это просто телега. Твоя очередь.
Я сосредоточился, глядя на артефакт. Моё Зрение, послушное уже почти как привычка, показало, как силы входят внутрь камня от оси, сквозь небольшой металл, за который отвечал Лотар. Как они скручиваются, как часть «оседает», а часть отражается.
– Пока всё стабильно, – сказал я. – Нигде не расплёскивается наружу.
– Можно попробовать отдать.
Мы выбрали небольшой подъём. Лошадь, привыкшая тянуть на себе примерно такой же вес, упёрлась по инерции, но в какой‑то момент я дал артефакту команду отпустить накопленное.